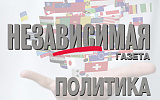|
«Крепостник». Этот ярлык, повешенный на Фета «демократическим лагерем», остался с ним и в советское время. По этой причине поэта долгое время в СССР не печатали (наряду, впрочем, с другими прекрасными авторами). Когда же все-таки начали это делать, то маститые советские писатели (к примеру, Симонов) не забывали напомнить советской общественности, что автор – крепостник.
Никаким крепостником Фет, конечно, не был. Он был нормальным хозяйственником, который показал на личном примере, как можно обустроить жизнь в послереформенной России. На средства приданого жены он купил небольшое имение в Орловской области и занялся выращиванием ржи, запустил проект конного завода, держал коров и овец, птицу, разводил пчел и рыбу в выкопанном для этих целей пруду. Конечно, при этом им использовался наемный труд. Но Фет твердо держался принципа live and let live. Он верил и надеялся на вольнонаемные отношения, на то, что сельское хозяйство можно наладить на новых основаниях.
Его угнетало то обстоятельство, что на словах прогрессивные люди на деле разрушали жизнь, когда у них появлялась возможность действовать самостоятельно. В одном из писем Фет говорит Льву Толстому: «Тургенев вернулся в Париж, вероятно, с деньгами брата и облагодетельствовав Россию, то есть пустив по миру своих крестьян… порубив леса, разорив строения и размотав до шерстинки скотину. Этот любит Россию. Другой роет в безводной степи колодец, сажает лес, сохраняет леса и сады, разводит высокие породы животных и растений, дает народу заработки – этот не любит Россию и враг прогресса».
Похоже, авторы подполья этих слов Фета не знали и не спешили с опровержением подлых слухов. Более того, они отчасти поспособствовали их распространению.
Вот, скажем, строки Юрия Кублановского: «Выбрал упругую розгу в пучке / и отдувается на мужичке / ласковый барин, заметив мозоль / на страусиновой лапке борзой. / Пар чаепития. Тихий азарт / перед рядком перламутровых карт».
А вот стихи Яна Сатуновского: «Фет, как-никак, был крепостник, / а я, я? – чем обеспечен? Чем?» Автор чисто прагматически размышляет о том, где найти время для досуга и нужно ли вообще его искать. Но, вспоминая своего любимого поэта, он не может отказаться от штампа.
В том, что для Сатуновского Фет был одним из самых значимых авторов, сомнений нет. При этом его значимость была от противного: «Я был из тех – московских / вьюнцов, с младенческих почти что лет, / усвоивших, что в мире есть один поэт, / и это Владим Владимыч Маяковский – / единственный, непостижимый, равных – нет / и не было; / все прочее – тьфу, Фет».
Сатуновского тянет к Фету как к поэту чистой формы и как к минималисту. Он также пытается ходить около пустоты, как делал это Фет. Но душой он остается с Маяковским. Гигантские шаги последнего заставляют дрожать вселенную. И Сатуновский заворожен этими шагами.
Но там, где «шагов громадье», там и «трели соловья». Поэтому возникают антитезы: «Вот отчего с годами – / вслушиваешься все чутче, / не прозвучит ли в шуме голосов / Маяковский – Алексей Кольцов, / Маяковский – Фет, / Маяковский – Тютчев».
Фет мал, Фет – сор. Но поэзия растет, по слову Ахматовой, именно из сора: «Я тоже думал, / что это стихи, / что это / ха-ха / да хи-хи, / а это / не хи, / и не ха, / и не хо, / и мне не до смеха, / и не до стихов, / и весь ваш Фет – пустяки».
Так через самоиронию Сатуновский признается в любви. Более того, ему удается в поэзии Фета найти что-то от Маяковского, то есть сочетать несочетаемое.
Поэт идет с работы. И внутри у него, как он потом записал в записной книжке, крутятся фетовские строчки «Взвод, вперед, справа по три, не плачь, / марш могильный играй, штаб-трубач!». Фет-Маяковский шагает по дороге рядом.
Помимо характеристики фетовского творчества, у Сатуновского есть и прямые сравнения себя с классиком: «Я хожу по Москве весь в пуху, / как на старости лет некий Фет». Или: «и, как заметил мой ровесник Фет, / то ласточка мелькнет, то длинная ресница».
Вслед за Сатуновским примерил на себя поэтическую походку Фета и Всеволод Некрасов. В стихотворении «Некоторое подражание Фету» он говорит: «Средняя Россия / Средняя Россия // Странные дороги / Санные дороги // По полю / По полю / Катится / Машина / Господи / Помилуй // И уже / Прости». Фактически мы имеем дело здесь с переложением на современный русский фетовского текста «Чудная картина».
Читатель погружается в снежное поле, видит звездное небо над головой; кругом пусто и тихо, таинственно. Поэт, как истинный эстет, оживляет картину двумя деталями. Мы слышим скрипящий звук саней, возникших в тишине ночи, и видим их владельца, который радуется простору. Человек в пейзаже мал, но его присутствие ощутимо.
Некрасов добавляет в текст иронию в духе постмодерна. А так – все точно.
Если между Сатуновским и Фетом есть поэтическая близость, то Кублановский и Фет оказались в полупозиции. С одной стороны, первого минималистом уж никак не назовешь. Стремление к развернутому рассказу, к повествованию у него выражено гораздо ярче, чем у последнего. С другой – у них немало совпадений: музыкальность строки, синтаксические нестыковки.
Кублановский в «Стихах о русских поэтах» обыгрывает отношения Фета и Тургенева, которые, как было уже замечено, в жизни ненавидели друг друга: «Фет с Тургеневым на бричке / проезжают по лесам…». Идет шутливая игра – «Заряжай ружье, Ванюша, / доставай, Афоня, пыж!» Литераторы выпивают и закусывают:
Разноцветные наливки,
сочный ростбиф да лучок,
и на них косящей сивки
кровью налитый зрачок.
В стихотворении «Дело к осени» показано сходство и различие Толстого, Тургенева и Фета в их представлениях о смерти:
Знать та уже близка, с натруженной косой,
чей влажный срез на свежем сене,
перед которой так бесчинствовал Толстой
и трепетал Иван Тургенев.
И Фет, вместо того, чтобы всхрапнуть всерьез,
набился к ним в единоверцы
и письменный стилет, как римлянин, занес
на заметавшееся сердце.
Кублановский живет в брежневском застое, где время остановилось. Смерть, которая находится всегда сзади человека и дает ему саму возможность целеполагания, кажется поэту не столь актуальной. Но у классиков все иначе: именно бытие-к-смерти (Хайдеггер) роднит их. При этом Фет предстает здесь стоиком, готовым покончить со страхом своим «письменным стилетом».
Василий Филиппов в полотне «Поэты» (1985) никаких развернутых повествований, как это сделал Кублановский, не представил. Только имена, сдобренные метафорами и сравнениями. Своего рода расцвеченные предметники Соковнина. О нашем классике здесь всего две строчки: «Вот фет –/ Скелет». Хотя я бы не сказал, что Фет был слишком худым.
В сонете «Сегодня я задумчив, как буфет» Александра Еременко «Фет» рифмуется с «буфетом», что, может быть, более соответствует его габаритам. Автор, буфет и Фет – предметы одного ряда, их можно рассматривать по отдельности и в их связанности: «На раскладушке засыпает Фет, / и тень его, косящая от Фета, / сливаясь с тенью моего буфета, / дает простой отчетливый эффект». Фет словно давний приятель зашел к автору и остался переночевать. Утром он берет велосипед – и уезжает навсегда. Автор следит за отъездом: «а я буду смотреть, / как сквозь лафет, / сквозь мой сонет на тот велосипед / и на высокий руль велосипеда». Так сонет превращается в инструмент для наблюдения.
Но вернемся, однако, к творчеству классика. Для Сергея Кулле Фет – инфернальный поэт: «– Привезите мне чего-нибудь из леса, / только не крысу! / – Привезите мне чего-нибудь из поездки, / только не краски! / – А чего привезти вам с того света, –/ только не книжку Фета?»
О Фете можно говорить как о предтече Гуссерля. Естественную установку сознания он сочетает с феноменологической. Любые вещи, согласно Фету, связаны не столько с миром, сколько с конструированием реальности. Андрей Монастырский обыгрывает этот фетовский подход в опусе «Я слышу звуки»: «Фет читает стихотворение «Не спрашивай / о чем задумываюсь я». / Перед его мысленным взором носится стая / ворон и своим карканьем мешает ему читать».
«Мысленный взор» выстраивает предметный ряд. Справедливости ради все же заметим, что ворон с их карканьем Фет в свои стихи не пускает.