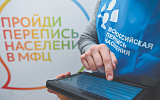Довольно крови! Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885. ГТГ
Довольно крови! Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885. ГТГ
О 100-летии нашего Февраля, от которого, как известно, хочется только «достать чернил и плакать», я вспомнил не слишком загодя, уже в конце января. И вспомнил в связи с этим один январский эпизод из российской культурной жизни перед началом Первой мировой войны (которая, согласно одной из культурно-морфологических хронологий, и стала подлинным началом для века ХХ).
Речь идет о так называемой репинской истории. 16 января 1913 года в Третьяковской галерее некий Абрам Балашов набросился с ножом на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Максимилиан Волошин опубликовал в газете «Утро России» статью «О смысле катастрофы, постигшей картину Репина». «Заранее подписавшись под всеми формулами выражений сочувствия и протеста», поэт попытался разобрать «психологическую сторону» происшествия. Почему Балашов спокойно разглядывал картину Василия Сурикова «Боярыня Морозова» и был выведен из равновесия именно картиной Репина, что означал его крик: «Довольно крови!», которой на холсте оказалось, согласно медицинскому расследованию поэта (имевшего репутацию какого-то сновидца), неестественно много? Не переступил ли Репин в своей картине, созданной в пароксизме слишком человеческой жалости и под влиянием театральной эстетики, какую-то невидимую, но чрезвычайно важную художественную черту, едва ли не до государственного уровня? «Что общественная опасность в ней есть, это было ясно всем власть имеющим (включая Александра III и Константина Победоносцева. – А.Л. ), но в чем она и к какому порядку явлений ее отнести – этого при их естественной некомпетентности в вопросах чистой эстетики они решить не могли». Сам же Репин в ходе сопровождавших публикацию скандальных диспутов заявил, что террорист явно был кем-то подослан («определенной партией людей, занявшихся целью погубить русское искусство»). История эта куда более поучительная, чем нынешние картиноборческие перформансы (типа хулиганского знака доллара на картине Казимира Малевича в знак протеста против коммерциализации искусства), если учесть разные типы восприятия уже собственно февральских событий.
Репинская история вспоминается при сопоставлении реакции двух литераторов на разгул красного цвета в феврале 1917 года.
Всем известны взгляды писателя Ивана Шмелева в пору расцвета его творчества в эмиграции. Но не все знают, как он был поначалу очарован Февральской революцией: «Смотришь, и поднимаются в душе светлые порывы, и перед этими радостными кусками красного атласа меркнет и выносится из души последнее притаившееся сомнение – в новое надо идти с детскими глазами».
Совсем другие умонастроения у Волошина, воспринявшего Февральскую революцию всего лишь как «солдатский бунт», как предвестие последующих трагических событий. «Куски красного атласа», которые поначалу так заворожили Шмелева, контрастно ассоциируются с «красным платом» Волошина из стихотворения «Москва (март 1917 года)»: «Ни свечи не засвечены…» В статье «Революция, проверенная поэзией» (1919) поэт напишет: «Москва переживала революционную идиллию. Принято было говорить о «бескровной революции». Был назначен парад… Слепцы стояли у Лобного места и на папертях и пели старинные песни: «Стих об Алексее, человеке Божием», «Стих о Голубиной Книге». От этого унылого пения развертывались незапамятные горизонты души, проваливался революционный парад и оставались только красные лоскуты знамен и кокард, точно пятна крови, проступавшей из-под исторических камней, напитанных ею, да глухой шорох надвигающейся толпы… в этот день революция впервые осознавалась роковой и кровавой». Да, такому зрению точно «беркут мог бы позавидовать», если воспользоваться строкой Иосифа Бродского.
В этой ситуации самое время поразмышлять над страницами почему-то ни разу не переизданной после первой публикации в начале минувшего века («Весы», 1904, № 11), несмотря на имеющий место волошинско-волошиноведческий издательский бум, доступной лишь в нескольких московских библиотеках статьи Максимилиана Волошина «Магия творчества». Волошин писал о наступлении «минут возмездия»: «Это действительность мстит за то, что ее считали слишком простой, слишком понятной!.. Будничная действительность, такая смирная, такая ручная, ощетинилась багряным зверем, стала комком остервенелого пламени, фантастичнее сна, причудливее сказки, страшнее кошмара».
На фоне рассуждений о распространении постмодернистской стилистики и на военную область нелишне и здесь обратиться к оставшимся непро(пере)читанными волошинским рассуждениям: «Мы привыкли представлять войну очень просто и реально – по Льву Толстому. Взять точку зрения одного человека и с нее взглянуть на грандиозное явление, не выходя из области, доступной глазу и уху, свести все до простой эмоции неожиданности и удивления – этим толстовским методом можно расчленить самые жуткие эпохи прошлого – Инквизицию, Террор, Кровавую Неделю, до самого простого видения обыденности.
Но теперь совершается что-то, к чему нельзя приступить с этой привычной и испытанной мерой. Переступлена грань реального и возможного. Расчленить кошмар нельзя. От кошмара можно только проснуться. Но проснуться – это значит перейти в иную область сознания».
Волошин живописует имевший, по его мнению, место поиск человечеством выхода из «темницы мгновения», выходом из которой всегда была история. Однако стать таковым последняя сможет в действительности лишь тогда, когда «человек войдет в нее сквозь двери своих воспоминаний»: «В каждом произведении искусства, в каждом старом камне, в каждой тропинке, в каждом животном вспомнить самого себя – это выход».
Волошин, в сущности, делает набросок основ ноосферного художественного творчества: «Мозг человека – это длинный свиток, на который записана нестираемыми знаками вся история человечества. Но это только заключительная глава в той книге, которая называется человеческим телом, – «глава о человеке»; но самое тело – это книга «о звере и о звездах». Наука прошлого века разбирала Розеттские камни этой азбуки, но она нашла только несколько букв. Победа над мгновением совершится только тогда, когда человек вспомнит историю человечества и вселенной из себя, прочтет их в своем собственном теле, в безднах своего бессознательного. Нужно, чтобы совершилось непостижимое, чтобы книга прочла самое себя».
И далее, простите длинную цитату: «Первые лучи приближающегося будущего отражаются в нас как желание. Поэтому всякое истинное желание, инстинктивное, бессознательное, когда хочется всем существом, не может не исполниться. Уметь хотеть – это значит предвидеть свое будущее – Неизбежность будущего – проклятие пророков. На рубеже Европейского сознания стоит трагическая фигура Кассандры, с отчаянием видящей все за много дней, все, чем беременно будущее. В ясновидении прервана нить между желанием и осуществлением, благодатная гармония, которая примиряет нас с будущим, разрешает вопрос о свободе воли, и знание будущего перестает быть бессознательным желанием, а становится злым Роком, все давящим, все уничтожающим. Желание есть предчувствие будущего, а в воле есть сила воздействия на будущее… Будущая действительность живет в потенциальном состоянии. Она может быть выявлена мечтой, и тогда она не случится в той области, которую называют реальностью жизни. Кому не случалось, со страхом ожидая какого-нибудь события, представлять себе в мечте всевозможные комбинации его, для того чтобы оно не случилось именно так? Это инстинктивная самозащита человека от будущего. Это заклятие будущего мечтой.
Мечта – это великая и страшная сила.
Она может быть смертельно опасной для непосвященных и любопытных, которые легкомысленно произнесут «Сезам» перед закрытой дверью, которые повернут ключ в таинственном ларце.
Горе тем, кто истощает свое будущее бесплодной мечтой! Но искусство дает мечте жало змеи и величественность камня.
В этом загадочная власть Слова.
Стихия слова – будущее. Если я захочу воплотить в слове то, что я пережил во всей полноте, – это будет только слабым напоминанием прошедшего. Но если я воплощаю в слове то, что живет во мне как предчувствие, как возможность, то слово само становится действительностью трепещущей и ослепительной. Описание смерти у Достоевского бледно и коротко, а картины безумия широки и ярки.
Реми де Гурмон доказывает, что для позвоночных животных ложь – тот же самый закон сохранения, что для насекомых мимикрия. Мы называем эту ложь мечтой.
Те гении, в организме которых заложена чересчур сложная и буйная судьба, неизбежным инстинктом самосохранения торопятся воплотить ее в произведениях искусства. Самосовершенные иногда успевают перелить свою судьбу, все свое будущее в свое творение. Поэтому истинная жизнь художника всегда полнее и вернее воплощена в его творении, чем в его биографии.
Этот закон выявления будущего мечтой, незыблемый для отдельного человека, незыблем и для целых народов. Горе тем народам, которые задушили в себе фантазию и любовь к мечте. Горе Макбету, зарезавшему свой сон!
После двух веков рационализма неизбежно наступает кошмар Террора и сказка о Наполеоне. После M-me Бовари, после Курбэ – кровавая неделя. Наоборот, 48-й год, который мог быть таким ужасным в своей кровавости, был ослаблен предшествующим романтизмом.
Русская литература в течение целого столетия вытравляла мечту и требовала изображения действительности, простой действительности, как она есть. На протяжении целого столетия Гоголь и Достоевский, одни, входили в область мечты. И кто знает, какие ужасы остались неосуществленными благодаря им в начале 80-х гг.! Поднимается иная действительность – чудовищная, небывалая, фантастическая, которой не место в реальной жизни потому, что ее место в искусстве.
Начинается возмездие за то, что русская литература оскопила мечту народа».
На мой взгляд, здесь представлены идеи новой, художественно-социальной поэтики предотвращения.
Позднейшее мнение уже нашей современницы, одной из основоположниц неклассической эстетики Юлии Кристевой, перекликается с конечным выводом Волошина. По ее мнению, незаменимая функция литературы постмодернизма – смягчать «сверх-Я» путем предварительного воображения (а не изображения постфактум) отвратительного и его отстранения посредством языковой игры, сплавляющей воедино вербальные знаки, сексуальные и агрессивные пульсации, галлюцинаторные видения. Как считает Кристева, необходимо ослабить ошейник, символически обуздывающий сексуальность в искусстве, дать выход вытесненным желаниям, и это позволит литературе и искусству на паритетных началах с психоанализом способствовать душевному и телесному оздоровлению человека, помогать ему словами действенной любви, более результативными, чем химио- и электротерапия, смягчать биологический фатум, располагающий к агрессивности, садомазохизму и т.п.
Не сыграл ли в России ее реальный, а не библиотечно-переводной постмодернизм роль социального амортизатора в ходе самого по себе сравнительно бескровного развала СССР (при том что геополитические последствия этого, конечно, еще не представимы), аналогичную смягчившему эксцессы французской революции 1848 года романтизму? Именно благодаря постмодернизму Россия погрязла в новом Феврале и не скатилась в новый Октябрь.
В своей компактной монографии-обозрении «Эстетика постмодернизма» (М., 2000) Надежда Маньковская прозревает в России «атмосферу спонтанного постмодернизма жизни нации с ее резкими контрастами, эклектизмом, многочисленными «киндер- и иными сюрпризами».
Окончательно оформившись здесь не «после модернизма», а «после соцреализма», став «контрфактической», «шоковой» (под стать экономической, столь же «чернушной» реформе) эстетикой, российский постмодернизм, по Надежде Маньковской, стремится оторваться от тотально идеологизированной почвы антитоталитарными, но идеологизированными же методами, политизируясь в соц-арте. С одной стороны, русский постмодернизм создает специфическую культурную атмосферу, компенсирующую ряд традиционных «комплексов» русской культуры (вторичности, отставания). Ремейки больших стилей (барокко, классицизм, авангард) сочетаются с фантазийными конструктами «пропущенных» стилей (сюрреализм, экзистенциализм), создавая своеобразный псевдопалимпсест, пустую литературную оболочку. С другой стороны, просачиваясь в культуру в целом, в том числе и политическую, вызывая и там целый сонм симуляционных химер, в России в отличие от Запада постмодернистский подход не сопровождается прогрессом толерантности и отмечен печатью особой политизированности.
На постсоветском пространстве возникла целая элита «политических филологов», успешно разрабатывающих, как золотоискатели на Аляске времен Джека Лондона, тему поруганной национальной традиции, культуры, языка, что Виктор Ильин и Александр Панарин ранее также связали с «социокультурной динамикой эпохи постмодернизма». Именно эта элита создает сегодня полухудожественные электризующие тексты, заразительные в политическом отношении, эксперименты со временем в которых направлены на разрыв недавно еще единого пространства.
Большой интерес представляет выдвинутая Юлией Кристевой концепция «религиозной функции постмодернистского искусства как структурного психоанализа веры». Сущность этой веры, полагает она, судя по всему, практически этой веры чуждая, заключается в переходе от макрофантазма веры к микрофантазму художественного психоанализа. Она проводит аналогии между символической самоидентификацией верующего с «Отче всемогущим» и эдиповым комплексом; верой в непорочность Девы Марии, позволяющей любить ее без соперников, и мотивами искусственного оплодотворения в современной литературе; верой в Троицу и структурно-психоаналитической тирадой воображаемого, реального и символического. Психоанализ и вера похожи на перекресток, на котором встречаются и сосуществуют разные культурные традиции, вступая между собой в плодотворный диалог. Юлия Кристева находит родство между постфрейдистской и неотомистской эстетикой в установке на поиск человеком опоры в себе самом. Психоаналитическая демистификация действительности способствует социальной интеграции, повышает адаптационно-игровые потенции человека. В то же время дефицит новых эстетических ценностей снижает инновационный потенциал постмодернизма, закрепляя его статус переходности к чему-то новому. Промежуточность этого типа культуры порождает колебания между позициями жреца и клоуна.
Человеческой двумирности и соответствующему ей двуязычию необходимы терминологические скрепы, по выражению Павла Флоренского, «узлы бытия», обладающие мистическими энергиями. Сможет ли привнести их в своем встречном движении богословская мысль с ее более синтетическим, чем аналитическим, потенциалом?