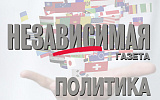Даже киоски «Союзпечати» где-то остались. Стоят, забытые и забитые, как советская литературная классика. Фото Владимира Захарина
Даже киоски «Союзпечати» где-то остались. Стоят, забытые и забитые, как советская литературная классика. Фото Владимира Захарина
«Матрица» – красивое слово. Но значение его, особенно в гуманитарном аспекте, понятно далеко не всем. Даже тем, кто смотрел фильм братьев Вачовски, один из которых уже стал сестрой. Что еще более запутывает понятие «матрица».
«Атлантида» – еще более красивое слово. И за ним со времен Платона тянется нескончаемый шлейф значений и коннотаций. Еще бы. Миф о материке, который в давние времена был населен могучим и героическим народом, а потом в единочасье ушел под воду, волновал многих. Где его только не искали. В Средиземном море и в Антарктиде, в Перу и в Бразилии… Кто о ней только не писал. Брюсов и Кир Булычев, Мережковский и Лавкрафт, Алексей Толстой и Роберт Шекли, полковник Фосетт и группа Nautilus Pompilius… Даже у Льва Кассиля был персонаж по прозвищу Атлантида, который мечтал поднять затонувший континент и построить на нем коммунизм…
И слово, значение которого мало кто знает, и слово, у которого много значений, очень удобно использовать в качестве названия. И вот они сошлись. В названии антологии эссе о жизни и творчестве русских писателей ХХ века.
 |
| Литературная матрица:
Советская Атлантида. – СПб.: Лимбус Пресс, Издательство К. Тублина, 2014. – 528 с. |
Ранее вышло уже два тома проекта «Литературная матрица». В них также были собраны эссе современных писателей о писателях прошлого. И принцип выбора героев для статей там был более чем прозрачен. Признанные классики. От Пушкина и Гоголя до Шаламова и Солженицына. В новой же книге собраны эссе о писателях, которые известны и любимы, без которых немыслим литературный процесс ХХ века, но в мире их классиками не считают. В том смысле, что Нобелевские премии не дают. Вот и у нас их теперь почему-то классиками считать не принято. Особенно сейчас, когда не работает лозунг «Советское – значит отличное». Особенно в литературе. И все-таки все эти авторы – отличные. Это советские классики. И забывать их не стоит.
Но вот тут хочется понять, как трактовали образ могучей, но утонувшей Атлантиды составители и авторы текстов. С каким настроем они подходили к работе. То ли советская литература была мифом, сгинула – да и ладно. То ли она была велика, но сейчас скрыта под толщами вод от взоров простецов, но мы-то – посвященные и знаем ей цену… Вопрос интересный, но разгадки не имеющий.
Книга написана энергично, бодро, как будто «нахрапом», как будто все авторы в одной редакции сидели, бухали и колотили по клавишам. Книга совершенно авторская, все оценки, цитаты и неточности – на совести тех, кто ее делал.
Среди героев много тех, о ком мы писали (к юбилеям, совсем недавно, к примеру, про Гайдара и Олешу). Среди авторов и вовсе: почти обо всех мы писали, очень многие писали нам, двое даже с нами работали (Сергей Шаргунов и Владимир Березин). Часть статьи Всеволода Емелина (о Рождественском, Ахмадулиной, Евтушенко и Вознесенском) мы печатали у себя (в основном то, что касалось Андрея Вознесенского, как раз юбилей был).
Повторим: посыл авторов и составителей нам понятен и близок. Может, мы и по немного другой причине часто так пишем о забытой советской классике, но думается, что расхождения наши невелики. Вот что пишет Герман Садулаев о Николае Островском: «Готовясь к написанию данной статьи, я не нашел в сетевых магазинах ни книги «Как закалялась сталь», ни биографии Николая Островского. Ничего не нашел. Хорошо, что есть старые библиотеки. Зато в Китае!..» Что касается библиотек, то добавим – пока еще есть. Даже киоски «Союзпечати» где-то остались. Стоят, забытые и забитые, как советская литературная классика. А что касается Китая, то продолжим цитату: «А среди китайских студентов Павка Корчагин – в первой тройке любимых литературных персонажей. Джеймс Бонд, Спайдермен и Павка Корчагин. Супергерои». Ага, Джеймс Бонд, так что дело не только в китайской Компартии.
Хотя… Алексей Ахматов статью о Вячеславе Шишкове заканчивает чуть ли не манифестом, который, возможно, стоит отнести ко всей книге (пусть и не уверены мы, конечно, что авторы и составители согласятся): «Почему же новые поколения не знают творчества Шишкова, как и многих других выдающихся писателей ХХ века? Да потому, что свидетелей убирают. А Шишков, как мы уже убедились, – яркий и беспристрастный свидетель своего времени, нашей недавней героической истории. Он свидетель стороны защиты».
Репрессированных советской властью советских писателей в книжке немало, кое-кто выжил или, как Гайдар, был убит на войне. Особняком там, пожалуй, лишь эмигрант Виктор Некрасов. Кажется, именно он говорил Галичу (или кому-то еще, неважно) любимую в «НГ-EL» фразу «Пойду, поклевещу». Говорил, отправляясь на работу, на Радио «Свобода». Как его не любить?
Впрочем, всех мы их любим. И любим наших коллег – авторов «Атлантиды» – за то, что тоже любят своих персонажей. Вот Михаил Елизаров о Гайдаре, о зверствах Гайдара в Гражданскую: «Нет ни одного документа, свидетельствующего о вырубке реликтовых офицеров, о пулеметных забавах и ледовом побоище на озере Божьем…» И продолжает: «Единственные засвидетельствованные мученики, принявшие смерть от гайдаровского пулемета, – это цивилизованные немецкие национал-социалисты, заглянувшие с освободительной миссией в СССР. Прикрывая отступление партизанского отряда в лесу под Каневом, Гайдар положил их не один десяток». И еще: «Лейтенант Тонковид войну пережил. Выжил и полковник Орлов, и комбат Прудников. Лейтенанты Сергей Абрамов и Василий Скрыпник (это их спас Гайдар на железнодорожной насыпи своим окриком: «Ребята, немцы!») тоже прошли всю войну. Все они были с Гайдаром в партизанском отряде под Каневом». И как логический финал (в стиле Галича, который от любых тем, даже сугубо лирических, все равно скатывался к Сталину, ЦК КПСС и пр.): «Если бы ночным вопросом по Мандельштаму: «Что делать?» – Сталин обратился к Гайдару, а не к Пастернаку, генсек бы не услышал в трубке: «Иосиф Виссарионович, какой Мандельштам? Давайте поговорим о литературе…» Гайдар бы заступился. Он не предал ни одного товарища, хлопотал обо всех…»
Согласитесь, к белым, даже сейчас, относиться можно по-разному, а к «цивилизованным немецким национал-социалистам» отношение в России более или менее единодушное.
Или Олеша. Наль Подольский вспоминает интересную деталь (вся статья интересная, просто обо всем в небольшом тексте все равно мы написать не можем) про Олешу: «Потом он записался добровольцем в Красную армию. Нес службу на пляже, будучи телефонистом на батарее береговой обороны». Да, на пляже. Потому что море. А не потому что пляж. Шаргунов в статье о Серафимовиче пишет о том же: «Море… В море никто не купается. В море попадают вынужденно». И цитирует уже Серафимовича: «…До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом. Он опять засмеялся…» И чуть ранее: «Кстати, именно у Серафимовича я прочитал удивительное свидетельство о хаосе войны. Оказывается, «нередко в армии избивали коммунистов», в Красной, да-да…» Ничего удивительного. Россия воевала против старого мира, а новый каждый видел по-своему. А многих и вовсе призвали. Причем не по одному разу. То в одну армию, то в другую, то вообще в какую-нибудь третью.
Вообще войны в книге много, потому что почти все воевали. Кто-то, как Илья Эренбург, в чем-то даже больше, чем воевал. «…В одной партизанской бригаде был специальный приказ, запрещавший пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга», – пишет Александр Мелихов.
Немного особняком стоит статья Вячеслава Рыбакова. Она не о ком-то одном конкретном и даже не о нескольких, как у Емелина (Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина), – тут о целом направлении и не об одном поколении. «Из истории советской научной фантастики». И здесь, пожалуй, публицистика перехлестывает эссеистичность. Хотя заметки о забытых массовым читателем авторах – о Евгении Войскунском и Исае Лукодьянове, об Анатолии Днепрове, о Георгии Гуревиче, о Владимире Савченко, о Георгии Мартынове, о Михаиле Емцеве и Еремее Парнове, о Сергее Снегове, об Александре Шалимове, о Генрихе Альтове и об Александре Меерове – прекрасны как серия точных портретов. Особенно для тех, кто их не забыл. А, что не будет писать о таких столпах, как Ефремов, Беляев, Стругацкие и Булычев, он оговорился сразу. Но завершается эта галерея короткой и совершенно неожиданной подглавкой. Рыбаков цитирует книгу Петера Швейцера «Тайная стратегия развала СССР»: «Советский Союз принял стратегическое решение избегать расходов на исследования и разработки, обеспечив себе доступ к западной технологии благодаря кражам или нелегальным закупкам ее…» Это случилось в 70-е. О какой научной фантастике, порожденной романтикой открытий и страстью изобретательства, после это можно было говорить? Рыбаков пишет: «В единый миг творцы и фанаты советской НФ, ни на волосок не сменив убеждений и пристрастий, разом оказались главными антисоветчиками. Да-да, именно они. Не Ефремов с его полузапрещенным «Часом быка», и не Стругацкие со своими вовсе запрещенными «Гадкими лебедями», и даже не Солженицын с его «ГУЛАГом», а все эти безымянные и бесчисленные увлеченные трудяги, необоримо стремившиеся познать и создать – и абсолютно неспособные не познавать и не создавать». С тех пор над Атлантидой много воды утекло, а к «креативному классу» отношение практически не изменилось.
Напоследок небольшой эпизод, который приводит Александр Етоев в статье о Шварце. Эпизод, из которого видно, что некоторые подробности быта и бытия молодой Советской республики были совершенно уже «нежные и удивительные»: «Николая Олейникова Шварц привел под крылышко Маршака сам, отыскав его в Донбассе на соляном руднике имени Карла Либкнехта, где Олейников служил в редакции газеты «Забой». В Петроград Олейников прибыл не абы как, но со справкой: «Сим удостоверяется, что гр. Олейников Николай Макарович действительно красивый», – выданной ему в сельсовете».
Здесь каждое слово – поэма, песнь песней и волхвование, а не дым костра, создает уют, милая моя, солнышко лесное, тут Рахава и Иерихон, царица Клеопатра, эй, ухнем, наливай, наливай, скорее, милый. Простите сумбур вместо музыки, слишком уж хорошо, никакого триумфа воли в такой ситуации нет и быть не может.
Мы вытираем слезы и идем перечитывать своих любимцев.














.jpg)