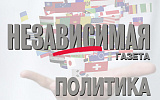Иногда главное – попасть по мячу, а не по воротам.
Кадр из мультфильма «Футбольные звезды». 1974
Иногда главное – попасть по мячу, а не по воротам.
Кадр из мультфильма «Футбольные звезды». 1974
Футбол был украшением моего детства.
Лет с пяти до двенадцати он владел моим воображением не только в радиорепортажах Вадима Синявского. Каждое лето футбол расцветал на покатой лужайке наших соседей в «Заветах Ильича» по Ярославской железной дороге. В «Заветах» мы с няней Филипповной жили на даче у моей двоюродной бабушки на улице Декабристов, поблизости от улиц, названных в честь деятелей мирового революционного движения. Это настраивало на серьезный лад, потому, наверно, Ильич не оставил нам такого завета: «Играйте в футбол!» Сам он, как известно, из всех видов спорта предпочитал шахматы и городки. При его жизни футбол большого распространения еще не получил. Ну, нет так нет. Няня с бабушкой и не играли. Этот завет придумали мы – дети – и были ему верны. Пусть в ту пору футбол не вырвался на поверхность планеты, но он уже клокотал в ее недрах, как ищущая выхода и местами находящая его магма.
Естественное поле (лужайка) на участке наших соседей Вахитовых спускалось от березы к кустам бузины, росшей вдоль общего с соседями забора. Угол наклона поля был невелик, но все равно мяч катился вниз резвей и бежалось за ним приятней. Играли не по времени, а по счету: до десяти голов в одни из ворот. После пяти менялись воротами, доставляя удовольствие бегать под уклон соперникам. Скромные размеры поля и наше малолетство определили число игроков – четыре на четыре по схеме 1 х 1 х 2:
Вратарь
Полузащитник
Два нападающих
Отсюда видно, что мы не отсиживались у своих ворот, а предпочитали атакующую манеру игры; острый, комбинационный стиль. В нашем понимании полузащитник был скорее полунападающим, а его любимым местом обитания оставался даже не центр поля, а штрафная площадка противника. Правда, за все пропущенные голы он отвечал наравне с вратарем. Индивидуальные финты приветствовались, но лишь до известного предела. Водиться было можно, нельзя было заваживаться, финтить напоказ, что называется, фикстулить, тем более терять мяч. Сразу следовало напоминание:
– Борька, не финти! Дофинтишься.
– Орик, кончай фикстулить. Пасуй.
Корректность игры подчинялась другому требованию:
– Не куйся!
В нашей лексике коваться означало попадать не по мячу, а по ногам соперника:
– Ребя, а чего Клим куётся?..
Как будто нога одного игрока была молотом, а нога другого копытцем, и его следовало подковать. Правда, ковались мы не нарочно, а от проблем с владением мячом. Работу ног контролировал не разум, а случай. Наша грубость оставалась непреднамеренной. Время от времени речь шла не о том, чтобы попасть по воротам, но о том, чтобы попасть по мячу, а тут и подворачивалась чья-нибудь нога. Выражение «самый молодой, самый техничный» было не про нас. И молодость, и техника маячили где-то далеко впереди, до них надо было еще дожить.
Отдельное слово о мяче. Мяч был волейбольный, кожаный. Его раздувала помещенная внутри и присыпанная тальком седая резиновая груша, но для этого следовало надуть саму «тетю Грушу», а уже она распирала покрышку. У нее имелся длинный резиновый сосок. За неимением насоса через сосок и дули. Ни у кого не хватало воздуха, чтобы надуть грушу одному, поэтому дули по очереди: брезгливые – обтерев грязной рукою слюнявый от предшественника конец соска, остальные – так. Накачав мяч до упругой округлости, перехватывали сосок крепким вервием и засовывали под покрышку, а щель, за которой он прятался, затягивали шнуровкой – суровым кожаным шнуром, уповая на то, что в игре при ударе он не попадет никому в лицо, особенно в нос. Могла и кровь брызнуть. Это сразу останавливало игру.

|
|
Хоть Ильич и не оставил завета играть в футбол, популярности футбола это не помешало. Фото Евгения Никитина |
Наши вратари не падали, а рыпались. Упрек вратарю: «Ты чего не рыпаешься, мышей не ловишь?» – мог привести к его замене, если было кем.
Нападающие откатывались назад при контратаках противника, а полузащитник (полунападающий), как сказано, отбив атаку на свои ворота, немедленно устремлялся к чужим.
Правило «вратарь – гоняла» мы не использовали, считая, что оно вносит в игру только хаос, которого и так хватало. Кроме того, пустые ворота превращались в лакомый и слишком доступный трофей. Нет, у нас вратарь стоял в воротах железно, как часовой.
Гол, забитый вратарем при ударе от ворот до ворот в расчет не принимался – больно легкий. Здесь работала формула:
от ворот до ворот не считается.
Угловых было так много, а проку от них так мало, что мы группировали их по три, а каждую тройку приравнивали к пенальти. Эта формула звучала как
три корнера = пеналь.
Одиннадцатиметровые долго служили предметом споров. Семь шагов от ворот – близко. Одиннадцать – далеко. Договорились бить с девяти шагов. Но тут возник другой вопрос: а кому и как отмерять шаги? Если отмерял игрок, бьющий пенальти, он заметно укорачивал шаг: до нормальных семи. А если отбивающий вратарь, то шаги крупно раздвигались, особенно два-три последних, действительно, почти до одиннадцати обычных. Конечно, реплика протеста «Так только в убортрест ходят» – вратаря несколько урезонивала, и последний гигантский шаг мог пристыженно сократиться, но не более того. Тогда решили увеличить точность единицы измерения, приняв за нее не чей угодно шаг, а конкретно длину ступни вратаря. Ее нарекли лаптем. Шаг можно было сужать или растягивать, а лапоть особенно не растянешь и не сократишь. Отмеряя условленное число лаптей, вратарь шел от ленточки ворот в поле, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Это называлось
пендаль на вратарских лаптях.
Мухлевать с лаптями было много труднее, чем с шагами. Конечно, можно было выходить не в своих башмаках, а в старых отцовских – больших на несколько размеров, и пятку одной ноги приставлять к носку другой не вплотную, как положено, а с просветом, но много на этой клоунаде не выгадаешь, здесь борьба шла уже за какие-то сантиметры. Лапти постоянно менялись. Всякий вратарь обувался по-своему, а сверять с контрольным лаптем, хранившимся как эталон в подвале Международного бюро мер и весов в Париже, мы не могли. Далеко. Глубоко. И не факт, что он там вообще хранится. Мы его туда не посылали.
Согласитесь, насколько изобретательным и строгим явился наш подход к делу. Пусть принятые нами формулы футбола (ФОФУ) приноравливаясь к нашим обстоятельствам и возможностям и не отвечали правилам Большой игры, утвержденным ФИФА, пусть ФИФА и не признавало ФОФУ, нас это нисколько не смущало.
Мы играли не для ФИФА, а для собственного кайфа.