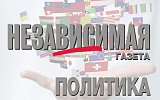Очень старый и очень распространенный вид коллекционирования – собирание морских раковин.
Фото Артема Житенева (НГ-фото)
Очень старый и очень распространенный вид коллекционирования – собирание морских раковин.
Фото Артема Житенева (НГ-фото)
«…Коллекционерство есть игра со смертью (страсть) и в этом смысле символически сильнее самой смерти…» – отмечал в 1968 году в своей работе «Система вещей» французский философ Жан Бодрийяр.
За 20 лет до книги француза, в другом ключе, почти беллетристически, выразил то же самое символическое состояние бессмертия, которое дает коллекция (в данном случае – библиофильская коллекция) советский академик Сергей Иванович Вавилов. 12 сентября 1948 года, находясь в Ленинграде, он запишет в своем дневнике: «Роюсь в шкафах и доверху набитых полках. Больше – все хорошие книги, но в них тонешь, в могилу с собою не возьмешь.
А после, снова потащатся книги прямыми и кривыми путями на толкучку, в книжные лавки. Во всяком случае, живут они много дольше хозяев. Странно: закристаллизовавшаяся мысль, которая существует только при наличии других. Я и все. Условность «я». А что же у человека лучше книг? Ничего. Лучший Пушкин и Ньютон – конечно, в книгах. Это фракционированная тонкая перегонка клубка, хаоса мыслей. Книжное «бессмертие». Хорошее бессмертие, понятное другим и приятное самому. Днем с (сыном) Виктором ездили по книжным лавкам. Снова пыль, кристаллы прошлого... Жизнь с книгами – странная жизнь, но реальная, настоящая, хотя и платоновская».
Вавилов фактически определил все самые важные проблемы собирательства, коллекционирования как такового: принципиальная недостижимость завершения строящейся с помощью коллекции модели личной вселенной коллекционера; судьба коллекции и судьба коллекционера; «термодинамика» формирования коллекций; пространственно-временной континуум коллекций (попытка обмануть Хронос).
Но и сама идея коллекционирования эволюционирует (мутирует) в зависимости от технических новаций и научных достижений. Очень характерный пример этого дает нам история развития фотографического процесса и фототехники.
 |
| Оказывается, коллекция кокошников – это еще и выгодное в экономическом плане занятие. Константин Маковский. Боярышня у окна. 1890 |
К концу XIX века фотография достигает такого уровня совершенства и доступности, что порождает принципиально новый общественный феномен – массовое коллекционирование фотоснимков. В Америке, например, необыкновенно популярными становятся постановочные портреты различных антропологических типов, индейцев в частности. Это была уже не просто портретная съемка, но именно съемка типажей. «Подобная типология была чрезвычайно популярна в XIX веке: попытки классифицировать и разделить на категории всех и вся – от камней и бабочек до групп людей, – а затем получить на основе этой категоризации некие научные сведения для установления неких принципов полезной деятельности человека, привели к зарождению таких новых дисциплин, как физическая антропология, – отмечают составители фундаментального описания коллекции фотографий из собрания Дома Джорджа Истмена (2010). – Эти же устремления вызвали к жизни чрезвычайно популярные в то время околонаучные занятия типа френологии. Судя по всему, костюмный портрет оказывается где-то между антропологией и френологией: наполовину наука, наполовину популярное увлечение... Но все же основными клиентами фотографа были именно туристы: они коллекционировали такие картинки, словно открытки, чтобы сохранить воспоминания о разнообразных экзотических народах и местах, которые они видели».
В России, конечно, как и всегда и во всем, проявление «давления» научно-технического прогресса на особенности коллекционерства было весьма специфическим. Выдающийся семиотик и филолог Юрий Лотман отмечал: «В начале ХХ столетия кино превратилось из ярмарочного увеселения в высокое искусство. Оно явилось не одно, но в сопровождении целого кортежа традиционных и вновь изобретенных зрелищ. Еще в XIX веке никто не стал бы всерьез рассматривать цирк, ярмарочные зрелища, народные игрушки, вывески, выкрики уличных торговцев как виды искусств». А следовательно, и как объекты коллекционирования, добавим мы. Да еще какого коллекционирования!..
Замечательный художник Владимир Милашевский (1893–1976) в своих воспоминаниях отмечает один интересный эпизод зимы 1914 года в Санкт-Петербурге – театральный разъезд после спектакля: «Вот Константин Маковский. Он стоит с женой и двумя дочками. Знаменитый Константин Маковский, изобразитель всех красавиц эпохи Александра II и Александра III… Семья Маковского села в ту самую карету, которую вскоре (в сентябре 1915 года. – «НГ») ударит трамвай на углу Садовой и Невского. От удара вылетит из кареты русский Тьеполо и расшибет голову о мерзлые торцы мостовой».
И дальше – самое интересное для нашей темы коллекционирования: «Будет аукцион его мебели и коллекции кокошников, русского оружия, серег XVI–XVII веков, – пишет Милашевский. – Все будет продано, вдова (по слухам) получит миллион золотом. Эта цифра всех тогда ошеломила. Как! не железнодорожные акции, не нефть, а одни «игрушки», забава, безделки, которые приятно повертеть в руках, тронуть и положить на место, – целый миллион!..»
Да, «народные игрушки», «коллекции кокошников», «забавы» и «безделки» порой могут приобретать не только потрясающую магическую силу, но и вполне ощутимую материальную оценку. И законы такого превращения пока не писаны. «Издавна известный секрет собирательства состоит в том, как из многого разного сделать единое, из множественного числа – единственное», – подчеркивает известный отечественный библиофил Марк Рац.
Действительно, ведь всякую всячину, почти без разбора, собирали еще средневековые коллекционеры. Так, в сокровищнице герцога Беррийского (1340–1416) помимо 300 томов со вкусом подобранных книг и 700 картин были представлены: рог единорога, обручальное кольцо св. Иосифа, кокосовые орехи, китовые зубы, чучело слона, гидра, василиск, манна, якобы выпавшая во время голода... Вполне можно представить себе в этой коллекции и кокошники русских красавиц – почему бы нет! Но вот невозможно себе представить, что все это «добро» можно было бы капитализировать, как это сделала вдова Константина Маковского. Тут уж точно приходится согласиться с Карлом Марксом, который как-то заметил, что в прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого мира.