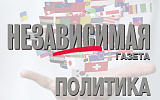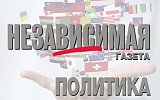В светском общении у каждого своя роль, своя маска.
В светском общении у каждого своя роль, своя маска.
Фото Евгения Зуева (НГ-фото)
Главное умение в этой жизни для праздношатающегося человека – подсматривать и подслушивать. Еще главнее – если уж встанешь на этот многотрудный, но увлекательный путь, никому никогда, ни при каких обстоятельствах, ни устно, ни письменно, ни прямо, ни косвенно, ни вслух, ни про себя не доказывать свою нужность этому обществу, полезность. С ней надо проститься раз и навсегда без страха и сожаления. Иначе всё, погибель. Крах всему.
А вообще-то нет ничего художественнее настоящего документа. Только он должен быть абсолютно настоящим. То есть никакого вымысла. Ничего совсем не надо выдумывать. Ни-че-го совсем. Но еще, по возможности, надо как-то умудриться, наблюдая, ничего к жизни не присоединять от себя. И, упаси Бог, не домысливать. Мысль вообще художника губит, или нет┘ Или да? Аа-а-а-а-ай, да, короче, неважно.
В метро
┘В вагоне малолетняя мама с полуторагодовалым ребенком. Ей нет двадцати. В наше время – редкость. У нее младенческие щеки, розоватые прозрачные уши, покрытые едва заметным нежным пушком. Утомилась совсем по-детски. Оперлась округлым подбородком на головку своего бесстрастно сопящего насупленного малыша и дремлет, ни о чем не думает. Приковывает взгляды. От нее какой-то свет. На них все смотрят.
Напротив – парочка холеных тридцатилетних вполне современных эгоцентриков; такие сознательно берегут свою жизнь от революции детородства. Посмеиваются, не то умиленно, не то недоуменно переговариваются, перешептываются. Смотрят на нее, как на инопланетянку. А она такая и есть. Как с полотна Вермеера. Пухлые бледно-розовые губы, русые волосы на прямой пробор, молочного цвета кожа и жемчужно-русые темные брови. Так прекрасна в своей естественности и отсутствии какой бы то ни было позы. Даже суетливой заботы о ненаглядном чаде, свойственной зрелым мамашам, в ней нет. Она вне социальных ролей и масок. Какая-то правильная и неизъяснимая в них обоих безмятежность. Да, вот именно, она несуетная.
Выходя, эгоцентрики обернулись, хотелось разглядеть ее внимательнее. Она совсем не обратила внимания ни на них, ни на чьи бы то ни было еще взгляды. Она вне взглядов. Она в другой плоскости.
Ей хочется поменять позу, и она делает это в невыразимо прекрасной истоме. С тем же беспримерным и справедливым равнодушием к окружающему, с каким взирает на весь свет утомившийся и уже нелюбопытный ее малыш, потерявший на ночь глядя интерес к движению, параллельному тому, что происходит у него внутри.
Неподалеку две ее сверстницы:
– В Лондон, что ли, съездить? А у Аньки уже даже гражданство есть.
– Да у нее там парень работает бухгалтером вроде бы, – долетел обрывок фразы.
А она вся не об этом. По ней трудно сказать, бедна она или богата, образованна или нет, счастлива ли, не одинока ли и сколько ей, собственно, точно лет. Трудно вообразить себе отца этого малыша, трудно подумать, любит ли он их так, как нужно любить ангелов Боттичелли, если бы они сошли сейчас на землю и двое из них, утомившись весь день размахивать в небе белотканными сильными крыльями, сложили бы их и присели поздним вечером отдохнуть в вагоне метро.
Все домыслы о возможном устройстве жизни этой девочки кажутся какими-то фальшивыми и ложными в сравнении с необыкновенным изгибом белой шеи и светом как будто ничего не выражающих к вечеру осоловело-усталых, равнодушных хрустально-синих глаз.
На светском рауте
В лицах женщин, живущих с мужчинами, которые много старше них, есть что-то дегенеративное. Эта едва уловимая расфокусированность заметна даже в самых прелестных. Как в детях, которых растят престарелые родители. Не то засушенность, не то поношенность в облике.
Это не имеет ничего общего с испорченностью. Наоборот, какая-то гипертрофированная невинность, которую хотят присвоить себе что-то упустившие в свое время старики, которым в зависимости от их социального статуса с разной интенсивностью принято делать комплименты про то, как они безвозрастны, как моложавы, как современны. Или говорить с ними про то, как много они дали своей жене в плане развития интеллектуального, культурного и прочего бредово-вымышленного, того, что дается этим нимфам и инфузориям взамен молодости, цвет которой будто бы покрыт паутиной, зачем-то заранее бережно укутан старческим мхом или подчинен тлению гниющего рядом плода.
Те, кто говорят о том, что это любовь, по-своему правы. Расчет здесь абсолютно ни при чем. Просто девы такие (не девочки, не девушки, не женщины и не бабы, конечно, а именно «девы», ибо они – иные) – это тот процент живой природы, который по какому-то особому закону больших чисел должен быть брошен на съедение не сильнейшим, а умирающим, но за таинственные особые заслуги помилованным на то, чтоб пожить еще, сытно питаясь свежайшим нектаром. Это, безусловно, любовь, но только – любовь паука к мухе, тли к листочку, червя к яблоку. И в качестве взаимности – сильнейшая привязанность жертвы к своему пожирателю. Все естественно.
У памятника Пушкину
– Как сама?
– Спасибо, хорошо. Видишь, как ты и просил, лечусь от аутизма.
– Не заметно, ты уже десять минут читаешь нотацию бывшему любовнику. Волосы покрасила?
– Ты же сказал, надо менять все системы.
– Ага, и ты, конечно, начала с самого главного... Не так надо.
– Угу. А как?
– Прекрати трахать мозг окружающим – и социальная атмосфера вокруг тебя резко улучшится.
– Что ты вкладываешь в понятие «социальная атмосфера»?
– Ничего, это я так, чтоб разговор поддержать...
(Поднимает голову вверх и якобы задумчиво.) Пу-у-у-шкин┘
– М-м. А это, видимо, чтобы разговор закончить?
– Ну все, мне пора. (Неожиданно и неловко быстро целует ее куда-то между щекой и губой. Пытается уйти резко и решительно. Вместо этого врезается в какую-то девицу.)