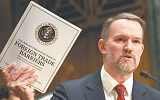Проект строительства трубопровода Dakota Access Pipeline для транспортировки нефти из сланцевого бассейна в штате Северная Дакота до сих пор вызывает жаркие споры. Фото Reuters
Проект строительства трубопровода Dakota Access Pipeline для транспортировки нефти из сланцевого бассейна в штате Северная Дакота до сих пор вызывает жаркие споры. Фото Reuters
В первый же день официального «вселения» в Белый дом 47-й республиканский президент США Дональд Трамп подписал беспрецедентное число документов, с одной стороны, отменяющих решения, принятые в рамках предыдущей демократической администрации, а с другой – ориентированных на реализацию предвыборных деклараций. Уже сейчас, учитывая его решения в течение первого президентства, можно представить и основные тренды экологической политики США. Ее суть – сигнал к пересмотру планетарной экологической стратегии, реализуемой мировым сообществом на протяжении последних 50 лет.
Судьба EPA
Ко второй половине ХХ века был собран практически неограниченный фактический материал, свидетельствующий о существенных антропогенных изменениях естественной природной среды обитания человека. Если модель World3 (Римский клуб, апрель 1972), обосновав концепцию «пределов роста», связала экономическую стратегию развития цивилизации с необходимостью учета современных экологических требований, то тезис «Земля только одна» (Стокгольмская конференция ООН, июнь 1972) был положен в основу природоохранной деятельности мирового сообщества.
Вместе с тем вряд ли выход США из Парижского соглашения по климату будет иметь позитивное значение для планетарных климатических трендов, а выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) явно не способствует сохранению и улучшению здоровья населения.
Предыдущая демократическая (байденовская) администрация перед уходом из Белого дома пошла на опережение. Так, в рамках деятельности Агентства по охране окружающей среды (EPA) еще летом 2024 года было объявлено о существенном финансировании более двух десятков национальных проектов, направленных на поддержку «экологически неблагополучных сообществ».
Предполагалось не просто выделение грантов, а реализация продолжающейся программы, включающей более сотни проектов по участию локального социума в деятельности по снижению загрязнения окружающей среды, повышению степени устойчивости локальных социоприродных систем. Среди первых потенциальных получателей природоохранных грантов намечался Техасский университет с реализацией проекта по очистке сточных вод (штат Алабама), комплексный проект «экологического сообщества» в одном из небольших городов (штат Калифорния). Удастся ли их реализовать при новой администрации?
Придя во второй раз хозяином в Овальный кабинет Белого дома, Дональд Трамп не изменил своих социально-экологических воззрений, для которых характерен, как представляется, приоритет экономизма с учетом «американской специфики» (одна из ее базовых сущностей – безусловность сохранения лидерства национальной модели деятельности и потребления) по отношению к признанным ориентирам мировой УР-стратегии. Структуры ЕРА оказались одними из первых «жертв» традиционного экономического мышления, исповедуемого и реализуемого в рамках нынешней администрации.
Природоохранная политика периода «первого прихода» Трампа запомнилась экологистам отменой (или корректировкой) решений прошлых демократических администраций, связанных в значительной мере с функционированием ЕРА. К примеру, в условиях пандемии COVID-19 были смягчены некоторые требования экологического законодательства с отменой ряда штрафных санкций; разрешены были масштабные продажи государственных территорий для разведки и разработки природных ресурсов; увеличены стандарты сантехнического использования воды.
При этом предполагалось ограничить сферу юрисдикции Агентства, которое традиционно занимается широким спектром природоохранных проблем: от контроля за качеством естественных экосистем и предотвращения загрязнения природной среды отходами производственно-хозяйственной деятельности до управления чрезвычайными ситуациями. ЕРА, по представлениям республиканской администрации, модернизировав внутреннюю структуру на инновационных основаниях, должно сконцентрировать свои усилия преимущественно на сохранении качественных показателей атмосферы (воздуха) и гидросферы (воды).
Идея целесообразности подобного секвестра прозвучала из уст нынешнего хозяина Белого дома уже в самые первые дни официального появления Трампа в Овальном кабинете.
Современные критики экологической политики республиканской администрации утверждают (Los Angelas Times, Feb. 14, 2025), анализируя факты, связанные с недавними пожарами в Калифорнии, что «блокировка некоторых контрактов» привела «к путанице», затруднив наем пожарных в Национальной лесной службе системы ЕРА.
Что же произойдет, если идеи экономического секвестра станут все же реальностью?
Климатический нигилизм
Все, в сущности, решения двух последних республиканских администраций Дональда Трампа, имеющие социоприродный контекст, исходят из его представлений, отвергающих консенсус мирового научного сообщества. В соответствии с этим консенсусом именно антропогенные факторы обусловливают реальность тренда планетарных климатических изменений, ведущих к нарушению равновесия исторически сложившихся естественных экосистем.
Если энергетическая стратегия обамовской и байденовской администраций отдавала приоритет сокращению выбросов СО2 за счет использования альтернативной (возобновляемой) энергетики, то политика трамповской администрации, абсолютизируя потенциал традиционных (в большинстве своем – невозобновляемых) энергоресурсов, инициировала преодоление ряда современных экологических норм.
Иначе говоря, «демократический» план «чистой энергии» был заменен «республиканским» вариантом – планом «доступной чистой энергии» (affordable clean energy). Стереотипы энергетического роста в той или иной форме превалируют над природоохранными требованиями. Фактически предполагается формирование такой структуры производства и потребления ископаемого топлива, в рамках которой отдельным штатам предоставляется «больше гибкости» в соотношении выбросов парниковых газов и соблюдения экологических нормативов.
Республиканская администрация подготовляла решения, согласно которым прибрежная равнина Арктического национального заповедника дикой природы становилась открытой для бурения, то есть для перспективной производственно-хозяйственной деятельности. При этом утверждалось, что потепление (а это безусловный факт) в Арктическом регионе «полезно», ибо открывает новые судоходные пути, повышая эффективность «расширения добычи нефти».
Уже в начальный период своего первого президентства Трамп подписал «широкий исполнительный указ», предписывающий регулирующим органам ЕРА «переписать» базовые правила, ограничивающие не только углеродные выбросы, но и ряд других природоохранных нормативов.
Намечался ренессанс придавленной экологическими стереотипами национальной угольной промышленности. Америка, обладая немалым запасом угля (26% мировых запасов), должна, как доказывалось, вернуть «рабочие места угольщикам» и обеспечить энергетическую независимость и национальную безопасность, не подвергая экономику ограничениям риска реализацией природоохранных требований.
Более того, возобновляемые источники энергии (ветровая или солнечная) оцениваются подчас как спорные, ненадежные и дорогостоящие, оттягивающие ресурсы на исследования и разработки, не всегда приводящие к экономически эффективным технико-технологическим решениям. Тем не менее, с одной стороны, национальная статистика свидетельствует, что ветроэнергетика занимает существенное место в обеспечении энергетического потенциала ряда регионов США. К примеру, в Айове, Северной и Южной Дакоте с помощью ветра вырабатывается около 25%. С другой стороны, республиканская администрация придерживается мнения, что альтернативная энергетика, по крайней мере на современном этапе развития, не соответствует национальным стратегическим потребностям.
В результате предполагалось получить доступ к неиспользуемым прежде ресурсам – запасам сланца, угля, нефти, природного газа и др. Впрочем, на пути реализации этого плана возникло немало препятствий. Так, например, «долгоиграющей» стала дискуссия о строительстве трубопровода Dakota Access Pipeline (DAPL), предназначенного для транспортировки нефти из сланцевого бассейна в штате Северная Дакота. Его строительство, приостановленное обамовской администрацией, было возобновлено президентом Трампом.
С одной стороны, планировался региональный социально-экономический бум (в известной мере состоявшийся), имевший не только локальный отклик, особенно в четырех регионах, где тянется ветка нефтепровода, но и федеральный контекст, учитывая миллионные налоговые поступления.
С другой стороны, в полной мере не были, кажется, учтены возможные социально-экологические последствия реализации проекта DAPL. Строительство трубопровода вызвало недовольство и бурные протесты коренных жителей, которые были обеспокоены ухудшением их традиционной природной среды обитания, имеющей для них помимо экономического немалое и культурно-религиозное значение.
Несмотря на то что DАРL не имеет сервитута, то есть официального разрешения пользоваться федеральной территорией, тем не менее трубопровод по-прежнему функционирует.

|
|
Хотя трубопровод DАРL в Северной Дакоте не имеет официального разрешения пользоваться федеральной территорией, тем не менее он по-прежнему функционирует. Фото Reuters |
В конце февраля 2025 года было объявлено об инициативе EPA – «Поддержка великого возвращения Америки» (Powering the Great American Comeback). «Величие» США связывается с «поддержкой» разработок ископаемого топлива, «прекращением» стимулов для развития возобновляемой энергии, «устранением» современных природоохранных нормативов и «отходом» от инициатив в области климатических изменений и «экологической справедливости».
Этот реально антиэкологический тренд федеральной политики, особенно затрагивающей перспективы возможных климатических изменений, не мог не вызвать обеспокоенной реакции. Кажется, трудно найти альтернативную точку зрения. Эксперты, в сущности, едины: выход США, занимающих вторую строчку в мировом антирейтинге стран по величине выбросов СО2, из международного соглашения по ограничению планетарного климатического потепления, безусловно, ограничивает его позитивную реализацию.
Впрочем, на пути реализации решений президента Трампа выстраиваются по крайней мере две преграды.
Во-первых, самостоятельность законодательства различных штатов США. К примеру, Калифорния противится выполнять федеральные решения, ограничивающие использование электромобилей, рассматривая отказ от традиционного топлива как один из позитивных факторов, тормозящих негативные климатические изменения.
В этой связи аналитики задались вопросом: могут ли штаты и города Америки взять на себя эти задачи, если федеральная администрация «сокращает меры» по борьбе с потеплением климата (Reuters Feb., 27. 2025)? Положительный в целом ответ на него, возможно, обусловлен учетом целенаправленной деятельности Климатического альянса США, включающих свыше двух десятков штатов страны, представляющих свыше половины ее населения.
При этом штаты – участники альянса поддерживают всеобъемлющие усилия Парижского соглашения, в котором фиксируется уровень выбросов парниковых газов. Члены альянса рассчитывают на выполнение принятых национальных климатических обязательств. При этом губернаторы штатов в полной мере осознают, по-видимому, масштабную сложность решаемых задач.
Во-вторых, еще одно препятствие на пути реализации антиэкологических решений нынешней администрации США связано с особенностями американской юридической системы. Как иронизируют физики, еще неизвестно, как быстро вступят в силу указы президента (American Physical Society Feb., 18. 2025). В российском варианте этот тезис выглядит так: «Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения». Впрочем, в американских реалиях этот вариант вряд ли сработает.
Информационный драйв, идущий от Белого дома, обострил реалии и в особенности перспективы планетарной социально-экологической ситуации.
Потребительский синдром. Предвыборный слоган Дональда Трампа «Drill, Baby, Drill» («Бури, детка, бури») стал не только синонимом его призыва к увеличению добычи ископаемого топлива, но и роста национального производства, связанного со стимулированием потребительского спроса.
И сейчас масштабы потребления в США соответствуют показателям самых крупных мировых рынков. При этом если население Америки составляет несколько более 4% мирового, то граждане США потребляют около 22% объема всех потребительских благ.
Утопичность стратегии устойчивого развития. Более 30 лет ее реализации в рамках мирового сообщества не приблизило человечество к балансу между человеком, социумом и его социокультурным окружением. Выполнение программы Целей устойчивого развития, представляющей собой конкретизацию УР-стратегии, планируемое к 2030 году, оказывается под большим вопросом. Вряд ли за оставшееся пятилетие можно рассчитывать на эффективное разрешение системы глобальных проблем, начиная с преодоления нищеты и бедности до совершенствования структуры здравоохранения и образования, повышения благосостояния глобального социума и природной среды его обитания. Данные международных организаций, в том числе ООН, свидетельствуют о том, что растущая геополитическая турбулентная напряженность оказывает негативное влияние на перспективы достижений ЦУР.
Если во второй половине ХХ века в тезисе о «пределах роста» была зафиксирована возможность исторической деградации естественной среды обитания человечества под воздействием сложившихся форм его производственно-хозяйственной деятельности, то к началу ХХI века в рамках концепции «планетарных границ» утверждалось представление о том, что современная цивилизация находится «в двух шагах» (осталось преодолеть лишь «две планетарные границы») от резкого (нелинейного) изменения природных экосистем. Иначе говоря, человечеству следует подготовиться к реальной жизнедеятельности в новой, трансформируемой среде обитания.
20 января 2025 года в инаугурационной речи Дональд Трамп провозгласил «золотой век Америки». И в этот же день им было подписано исполнительное распоряжение: «Выдвинуть Америку на первое место в международных экологических соглашениях» (Putting America First in International Enviromental Agreements). Как пафос этого официального документа будет совмещаться с реальной социоприродной национальной стратегией – покажет время.