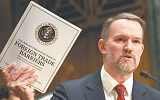Юридическое разделение не должно оборачиваться разделением людей.
Юридическое разделение не должно оборачиваться разделением людей.
Фото Александра Шалгина (НГ-фото)
Те, кто ретроспективно смотрит на события семнадцатилетней давности из Москвы, убеждены в случайности произошедшего распада. Они не забывают о том, что границы новых политических единиц полностью совпадают с административными границами, прочерченными коммунистами внутри СССР. Отсюда патронаж по отношению к новым суверенам, явное или неявное нежелание считать их государствами в полном смысле слова. Юридически их автономность признается. Культурно – в них видят не более чем осколки «исторической России».
Кто тут главный
Из Кишинева, Ташкента, Баку и Астаны ситуация видится иначе. Не только местные элиты, но и значительная часть рядовых граждан научились ценить коллективное благо, именуемое суверенитетом. Созданы официальные идеологии, постулирующие, что обретение государственности было телеологически предрешено. Написаны учебники истории, демонстрирующие, как «нация» пробивалась к этой цели сквозь века (преодолевая давление сначала русской, а затем советской «империи»). Сняты фильмы, подпитывающие такой взгляд эмоционально.
Правда, Москва время от времени напоминает своим соседям, кто тут главный. Угроза перебоев с поставками энергоносителей или ограничений с легальным въездом в Россию трудовых мигрантов – серьезные рычаги давления. Однако не стоит преувеличивать степень «обреченности» постсоветских государств на партнерство с Россией. Дело даже не в том, что, как показала практика, возможности политико-экономического давления далеко не безграничны. Дело прежде всего в негативных эффектах российских действий в символической сфере. Хотелось бы думать, что эти эффекты непреднамеренны. Иными словами – что никакой символической политики у нас нет. Если же то, что мы делаем по отношению к своим ближайшим соседям, есть следствие некой продуманной стратегии, то эту стратегию нужно менять.
Тонкая материя
Национальные чувства – тем более чувства, связанные с лояльностью молодому государству, – материя деликатная. Есть риск обидеть, а то и оскорбить. Мы просто недооцениваем болезненность, с которой новые обладатели суверенитета реагируют на публичные высказывания российских политиков. Высокомерие по отношению к соседям, исходящее от первых лиц государства, контрпродуктивно внешнеполитически.
Весной этого года участники конференции фонда «Русский мир» отстаивали необходимость употребления оборота «на Украине», а не «в Украине», поскольку именно предлог «на» уместен здесь с точки зрения норм русского языка. Но, может быть, стоит поступиться лингвистической корректностью в пользу политической? Уступить в малом, чтобы выиграть в большом (а на карту поставлено развитие русского языка за пределами Российской Федерации)?
Повышенная сенситивность к выбору слов и интонации – не единственное, о чем стоит позаботиться политическому классу, если он хочет, чтобы российское влияние на постсоветском пространстве усиливалось, а не ослабевало.
Имперская ситуация
Стали общим местом упреки российскому руководству в отсутствии позиции по отношению к «ближнему зарубежью». Считается, что необходимо наконец определиться с политическим вектором: признаете вы, мол, состоявшийся развод окончательным? Или по-прежнему вынашиваете «имперские амбиции»?
Дилемма абсолютно нелепая. Из признания легитимности возникших в 1991 году границ вовсе не следует, что отношения между Москвой и, скажем, Ереваном должны строиться так же, как отношения Москвы с Йоханнесбургом. Не следует отсюда и того, что люди, которых эти границы разделили, должны отказаться от всего, что их связывало. Практические политики (не только в России) интуитивно чувствуют вымороченность политической теории, сталкивающей друг с другом кубики под названием «национальное государство» и «империя».
В современной социальной теории само содержание понятий «империя» и «нация» («нация–государство») пересматривается. Передовые социальные исследователи рассматривают не сущности, а ситуации. Соответственно речь целесообразно вести не об империи как таковой, а об «имперской ситуации». В способах управления и формах организации социальной жизни, практикуемых в империях, присутствует многое из того, что принято считать свойством национального государства. И наоборот: в национальных государствах могут существовать отношения, присущие скорее имперской ситуации. Например - практика сегрегации населения по расовому признаку, сохранявшаяся до середины 1960-х в США, равно как и практика привилегирования по тому же признаку, известная с 1970-х как affirmative action.
Логика, согласно которой человечество идет дорогой от (поликультурных) «империй» к (монокультурным) «нациям», не способствует адекватному видению сверхсложных современных реальностей. Сторонники этой логики упорно цепляются за идеал нации в этническом смысле слова. Результат – форсированные попытки во что бы то ни стало ассимилировать ту часть населения новых «национальных государств», которые в идеал этнонации не вписываются. И, разумеется, обвинения в нелояльности и «языковом сепаратизме» по адресу русских, ассимиляции противящихся. Разумеется опять-таки – обвинения России в том, что она такое сопротивление поддерживает.
Не оправдывает себя и логика оппонентов национализма а-ля Александр Проханов, радеющих о «возрождении империи». Какими бы искусственными ни были границы, отделяющие друг от друга бывшие советские республики, наличие этих границ – юридический факт. И задача не в том, чтобы его отменить, а в том, чтобы не дать этим границам превратиться в реальные разделители социально-коммуникационного пространства, которое в значительной мере остается единым.
Это пространство существует на разных уровнях – от элитарной культуры до поп-музыки и общих дискуссионных площадок в интернете. За полтора столетия проживания под одной политической крышей с народами Закавказья и Средней Азии мы накопили колоссальный культурный ресурс. Творчество Айтматова, Абуладзе, Стуруа, Габриадзе, Хачатуряна, Параджанова, Сулейменова, Мустафа-Заде – это в той же мере наследие Киргизии, Грузии, Армении, Казахстана и Азербайджана, сколь и России. Отдрейфовали к Западу, но не покинули окончательно зону притяжения русского языка и культуры государства Балтии. С гражданами этих стран нам есть о чем вместе понастальгировать (от театра Мацкявичуса до московско-тартуской семиотической школы) и что обсудить в рунете – заметим, что львиная доля пользователей сети от Вильнюса до Бишкека пока предпочитает английскому русский.
Но этот ресурс необходимо развивать. Предлагать соседям совместные проекты в информационной и медийной сфере. Вместе создавать блокбастеры и телесериалы на исторические темы. Вместе делать циклы радио- и телепередач, активизирующие чувство общей культурной принадлежности. Вместе писать учебники истории – или хотя бы консультироваться друг с другом при их написании.
В отсутствие продуманной символической политики соседи неизбежно будут от нас отдаляться. Сначала эмоционально. Затем, по мере выстраивания автономной системы образования и автономных СМИ, – фактически. Ибо вырастет поколение, которое не будет видеть в связи с Россией сколько-нибудь значимого ресурса.