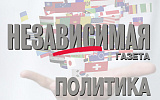Покойного инвалида Володю Яковлева ни к селу ни к городу засыпали затрепанным до безобразия титулом «старик-ты-гений», присовокупив репродукции цветом с надписью: у нас его оригиналы, у других фальшаки!
Не оспаривай чужое, подумал я, а гни свое.
Наберись терпения, не спорь, не горячись, не учи, а расскажи свое.
Происхождение гения
В 1958 году мой сокурсник Сашка Васильев, меценат, коллекционер, книжник, эстет, показал мне гения своего выбора, живущего у стены Бутырской тюрьмы, в бараке с кривым потолком. Нас встретил низкорослый малый, постоянно щуривший глаза. Говорил он невероятными словесными сдвигами: «Сашка пришел, а с ним студент воробей – не гоняй голубей, прилетел и сел в мое кресло». Он не рисовал, а писал широкой кистью анонимные лица.
Вздыбленные ежиком черные волосы, необычное устройство лица, вот парень не «от мира сего» – первое, что бросалось в глаза. Инопланетянин в человеческом образе. Ничего подобного я не видел в искусстве.
Художник постоянно наклонялся над листом бумаги, как ювелир, оценивая драгоценный камень. Если прямиком его глаз обо что-то спотыкался, то боковым зрением он видел все и далеко. Особый глаз безгрешного созидателя. Зверев, с которым они часто пересекались, считал, что Яковлев «видит лучше нас с тобой и только хитрит, чтоб больше заработать».
В коридоре стояли большие холсты, прислоненные к стенке. Оказалось, что дед Володи работал вместе с Константином Коровиным, учившим его писать широким мазком.
Гений непознаваем, он – невидимка. Опознанный гений сразу попадет в тюрьму, как особо опасный преступник. У него нет жизни. Рисовать сутками напролет, без отпуска и безделья, разве это жизнь? Володя рисовал по ночам, когда спал коммунальный барак, и каждое утро соседи топили его живописью печку. Художник впадал в меланхолию и спасался в психиатрической лечебнице, где люди ближе к Богу.
Мое зимнее знакомство с Володей никогда не обрывалось до его кончины в 1998 году.
Происхождение его гения гремучее. Его дед Михаил Николаевич, нижегородский старовер и ловкий живописец «левитанской школы», до эмиграции во Францию (1922) служил в Императорских театрах ассистентом Константина Коровина. Бабка Феодосья Францевна, женщина немецкого корня, шила театральные костюмы, однако жить достойным образом в Европе им не довелось. Тысячи российских беженцев меняли профессию на ходу: в Истамбуле – капитан, в Белграде – грузчик, в Париже – шофер. Кровожадные атаманы превращались в смирных швейцаров, знаменитые адмиралы – в уличных рисовальщиков. Левитанский мазок нижегородца никто не оценил, семья жила впроголодь и на вечном чемодане. Сын Игорь посещал не сборища «белых воинов», точивших ножи крестового похода против безбожных большевиков, а комячейку университета и рвался строить коммунизм. Сначала вернулся Игорь с приятелем. Приятеля сразу расстреляли как «британского шпиона», а фанатика коммунизма послали копать каналы. Этому, скажем откровенно, крупно повезло.
Безымянные труженики «святого искусства» вслед за сыном вернулись в опасную Совдепию.
«Приветствую вас с новым небом и новой землей. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет», как правильно выражается «Откровение», 22,1.
Строитель Игорь Яковлев успел жениться на уроженке солнечной Бессарабии Вере Тейтельбаум. «Не баба, а газировка», как выражалась свекровь Феодосья Францевна. 15 марта 1934 года в глухой Балахне родился головастый мальчик, названный, естественно, в честь главного вождя Владимиром.
«У нас в Балахне росли мальвы!» – помнит деревенское детство Володя.
Дед Михаил Николаевич скончался в 43-м, а бабушка и молодая семья строителей перебрались в московский барак, на грязную Тихвинскую улицу.
Чемпион квартирных выставок
 Как знаменитый писатель Бунин, Володя не окончил четырех классов, просидев два года в третьем, надоело и заболел глазами. Смотрел на дедовские пейзажи и мечтал стать фотографом. В издательстве «Искусство» ему поручили ретушевку черно-белых изображений. До 57-го, до знаменательной встречи с «профессором всех профессоров» Васькой-Фонарщиком (Василий Ситников, художник, державший лучшую «домашнюю академию». – «НГ»), Володя не знал, что и чем рисовать. На фестивале молодежи начинающий ретушер сразу попал в руки гипнотизера изящных искусств Василия Ситникова. За полгода палочной тренировки он вырос в живописца первой величины. Вещи 58-го года были сделаны с оглядкой на китайцев. На вопросы посетителей Володя, играя словами и образами превосходной вязи и красоты, говорил:
Как знаменитый писатель Бунин, Володя не окончил четырех классов, просидев два года в третьем, надоело и заболел глазами. Смотрел на дедовские пейзажи и мечтал стать фотографом. В издательстве «Искусство» ему поручили ретушевку черно-белых изображений. До 57-го, до знаменательной встречи с «профессором всех профессоров» Васькой-Фонарщиком (Василий Ситников, художник, державший лучшую «домашнюю академию». – «НГ»), Володя не знал, что и чем рисовать. На фестивале молодежи начинающий ретушер сразу попал в руки гипнотизера изящных искусств Василия Ситникова. За полгода палочной тренировки он вырос в живописца первой величины. Вещи 58-го года были сделаны с оглядкой на китайцев. На вопросы посетителей Володя, играя словами и образами превосходной вязи и красоты, говорил:
– Я придумал новый стиль «гохуаташи»!
Сильно сказано, не правда ли?..
За ним охотились очень редкие собиратели и поклонники: композиторы Вадим Столляр и Андрей Волконский, книжник Александр Васильев, юные поэты Мишка Гробман и Генка Айги, психиатр Виктор Райков.
Современное общество высоко ценит рисование глубоких шизофреников, оно изучается и содержится в особой папке «арбрут». Об этом отлично знал Виктор Райков и постоянно вводил в свои книжки иллюстрации Володи как пример рисования душевнобольных, одаренных к искусству людей.
Володя – чемпион московских квартирных выставок. Их кто-то раскручивал за него. Осенью 62-го ему сделали сразу три в один сезон: в рабочем клубе «Дружба», в квартире писателя Владимира Бугаевского и в квартире композитора Андрея Волконского. Организаторы доставали стекла, резали паспарту, обрамляли изоляционной лентой, и вещи сразу обретали чистый товарный вид на продажу довольным эстетам. За годы московских блужданий я посетил сотни квартир и везде видел «цветок» Володи Яковлева, висевший на главной стенке.
Игорь Михайлович и Вера Александровна сияли от счастья, когда за почеркушки сынка Володи посыпались деньги. Возник счет в Госбанке и квартирный кооператив на Ленинском проспекте.
Туда я часто звонил и привозил покупателей.
«Живопись – это ветер, а не квадрат!»
Володя Яковлев сбежал из больницы профессора Ганнушкина и хотел рисовать маслом. В ноябре 67-го в сопровождении поэта Гробмана он спустился в мой подвал, сощурив глаза.
Нежная дружба Володи с Гробманом – особая статья под названием «Под сенью гения». 27 марта 1968 года Миша Гробман пробил однодневную выставку работ Володи в святая святых страны, в «Доме художника». Он собрал огромную толпу московской интеллигенции, хорошо заработал, но Володя остался недоволен. Он желал писать маслом и пришел ко мне.
Тут я претендую на первенство, как викинги на открытие Америки. До меня Володя не работал маслом, не умел и не разрешали. В Бутырках протестовали соседи, в Черемушках мама не выносила запаха керосина – вонь, дышать нечем.
 «Слушай, воробей, возьми меня в ученики... люблю учиться, хотя ненавижу математику... люблю мальву и солнце... без солнца нельзя жить, это доказал доктор Альберт Эйнштейн... да я и без него давно это знал, когда хорошо видел в детстве... солнце пытался маслом писать Ван-Гог, но ничего не вышло... посмотри получше, солнце съедает цвет... солнце это диктатура света, а не цвета... я сын солнца, как Ван-Гог... я светоносный живописец... а квадрат – это не живопись, а геометрия!..»
«Слушай, воробей, возьми меня в ученики... люблю учиться, хотя ненавижу математику... люблю мальву и солнце... без солнца нельзя жить, это доказал доктор Альберт Эйнштейн... да я и без него давно это знал, когда хорошо видел в детстве... солнце пытался маслом писать Ван-Гог, но ничего не вышло... посмотри получше, солнце съедает цвет... солнце это диктатура света, а не цвета... я сын солнца, как Ван-Гог... я светоносный живописец... а квадрат – это не живопись, а геометрия!..»
В середине 70-х в московском подполье явилась мода на геометрическое искусство – Потешкин, Троянкер, Штейнберг. Володе показали «черные квадраты Потешкина», и он тут же отрезал:
– Квадрат – не живопись. Живопись – это ветер, а не квадрат!
Школа рабочей молодежи для отстающих располагалась в Ананьевском переулке, в двух шагах от моего подвала. С тетрадкой ученических каракуль Володя спускался ко мне с пением арии Мефистофеля «Люди гибнут за металл». Разговорная речь Володи сияла и вертелась невероятным кувырком вымысла и красивых слов. Всякий раз он выдавал изощренные образцы русской словесности и ничего определенного.
Таков подход гения!..
Никаких разговоров по душам мы не вели, сугубо личное нас совсем не трогало, и первые пробы маслом он лихорадочно смывал, несмотря на мою просьбу сохранить их. После его ухода я прятал «говно» и подставлял другие картонки, нарочно купленные для него у матерщинницы из Ермолаевского подвала. Стандартные картонки, затянутые льняным холстом. Так я спас от истребления штук тридцать работ без порчи, пренебрегая его протестами и даже угрозой «свернуть мне набок челюсть».
Раз он привел с собой учительницу русского языка Руфиму Абрамовну Глуховскую. Она посмотрела на масло и сказала: «Что это такое?!»
Возможно, Володя хотел получить «пятерку» по русскому и арифметике, но огонь и ветер искусства она не могла оценить.
В подвальном кресле дремал Борушок. Стучал на пишущей машинке писатель Витя Синицын. Володя кипятился, пытаясь объяснить учительнице сущность масляной живописи. Записей я не вел, и весь гениальный словесный поток, беспокойный и острый, яркий и образный, наслаждаться которым мне довелось пять лет подряд, навсегда потерян.
Я учил Володю живописи и сам учился, собирая драгоценный энергетический материал, исходивший от его повадок, фраз и действий. Мои классические рецепты он не мог усвоить и продолжал тыкать кистью в палитру, образуя свое искусство.
А вот коммерческий пустяк.
Ко мне пришли итальянские аспиранты пить водку. В кресле дымил огромной сигарой Зверев. Володя закончил пейзаж с белым цветком в правом углу и черным, страшной глубины небом. Итальянцы уцепились за картинку и покупают с одним условием, чтоб автор подписал свою работу. Володя вскипел, бросил на пол кисть и скрылся в соседней комнате.
«Хитрит парень, – пыхтел Зверев, – набивает цену».
Разочарованные иностранцы выпили, закусили и ушли. Володя вернулся с криком, что он забыл, как писать слово «Яковлев» – через «о» или «а». Зверев ржал от восторга, я написал на бумаге это слово, Володя скопировал в правый угол, но грамотно и разборчиво подписывать он так и не научился.
Мой сосед Виталий Стесин пытался учить его под диктовку – не вышло.
Миша Гробман опекал его, как нянька ребенка. Посещал в дурдоме, носил передачки, общался с родителями, собирал его картины.
 Позднее он мне писал: «Картина Яковлева не украшение стены, а собеседник и соучастник. Расстаться с его картиной как расстаться с любимой собакой, живым и бескорыстным созданием. Картина Яковлева – это член семьи».
Позднее он мне писал: «Картина Яковлева не украшение стены, а собеседник и соучастник. Расстаться с его картиной как расстаться с любимой собакой, живым и бескорыстным созданием. Картина Яковлева – это член семьи».
Лучше никто не сказал.
Стесин снимал жилье в деревянном бараке на снос, где собиралась «вся Москва», готовая эмигрировать в Израиль. Бездомные евреи из Бухары, вечно пьяный живописец Ворошилов с одеколонной пеной во рту, приезжая француженка с блокнотом. Бестолочь вокзала не мешала Стесину рисовать абстрактные картины и подбивать Володю к эмиграции.
«Стесин, я патриот Страны Советов, а ты – предатель родины! – ворчал Володя. – На кого ты меня покидаешь, вокруг одни сволочи!»
Мужчина особой красоты
После отъезда Гробмана и Стесина в Израиль Володя совсем осиротел, влюбился в пианистку Ирку Ермакову. Очень решительная особа, отлично игравшая Баха и гладившая Володю по голове.
«Может быть, он некрасивый, может быть...»
Те, кто видел, что Володя кусок червонного золота и личность особого покроя, выжимали из него как можно больше.
«Воробей, я влюбился, – раз сказал мне Володя, – моя невеста играет Баха и чистит мне кисти. Я не могу без нее жить!»
Фальшивая любовь быстро развалилась. Как следует отоварившись шедеврами влюбленного Володи, пианистка скрылась во Францию, не заплатив ему ни одного рубля.
В тот 71-й год «простой советский человек, а не француз», как он сам себя величал, убитый предательством пианистки, надолго слег в дурдом.
Эксплуатация человека человеком!..
Мне повезло. Опасным и больным я никогда его не видел. У меня он не бился головой об стенку, а молча красил. Для меня он был мужчиной особой красоты. Адептам греческих пропорций делать здесь нечего, ну а мне он помогал жить.
Простился я с ним за год до моего отъезда в Париж. Ко мне заехал мудрый итальянский маклак Микеле Руджейро и сказал: «Слушай, поехали к Володе!»
Родители Володи отлично знали о моем продуктивном посредничестве и немедленно позвали нас в Черемушки. Дверь открыл Игорь Михалыч. В крохотной комнатушке сидел Володя, скрестив руки.
«Слушай, Воробей, дай мне холст побольше, иностранцы обожают большие картины и хорошо платят!»
Итальянец купил пачку гуашей. Все эти монументальные «мальвы», «ромашки», «лица», «абстракции». В знак благодарности Володя набросал с меня и моей подруги портреты резким и острым карандашом и подписал без единой ошибки в своем имени.
Выставлялись мы вместе один раз в Лондоне, в 1985 году. С большим трудом мне удалось выпросить «мальвы» Володи из цепких рук пианистки Ермаковой. О нем писали англичане всякую чепуху. Он стал известен, но совсем неоценен по достоинству на Западе. Потом один за другим умерли его родители. Сестра Ольга присвоила себе счет в банке и квартиру, запечатав братца в дурдом. В дурдоме он и скончался, а как и где его похоронили, я не знаю.
О страдальческой жизни Володи по психушкам и интернатам, где появились новые охотники за «мальвами», фальшивые меценаты и покровители, до меня доходили лишь слухи.
Умер он в 64 года, так и не побывав в Китае.
Париж











.jpg)