 Даже либеральная элита Евросоюза чтит наследие Карла Великого и Священной Римской империи. Фото с сайта www.brf.be
Даже либеральная элита Евросоюза чтит наследие Карла Великого и Священной Римской империи. Фото с сайта www.brf.be
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв защитить христианское наследие Европы. «Чего требует венгерский народ от Брюсселя?» – такой вопрос задал Орбан в соцсети. В числе прочего – «защитить христианское наследие Европы». Венгерский премьер также потребовал «запретить противоестественное перевоспитание наших детей». Это выступление Орбана прозвучало 15 марта, и оно уже не первое на такую тему. Вообще тема христианских основ Европы на протяжении последних десятилетий неоднократно становилась предметом публичных дебатов в Европейском союзе.
Основной закон и христианские основы
В начале 2000-х годов разгорелась дискуссия о том, должна ли Конституция ЕС включать упоминание о христианском наследии. Ватикан и ряд политиков настаивали на том, что европейская идентичность исторически неотделима от христианства и эта истина должна найти отражение в преамбуле Основного закона. Папа Иоанн Павел II призывал внести в текст Конституции упоминание христианства или хотя бы Бога. К этой позиции присоединились многие христианские конфессии Европы и консервативные партии. Католические страны – прежде всего Италия, Польша, Испания, Португалия, Словакия, Мальта, Литва – активно поддерживали идею закрепить «христианские (или иудео-христианские) корни Европы» в тексте. Правительства Польши и Италии официально настаивали на прямом упоминании христианства в преамбуле.
Однако против решительно выступили светски настроенные страны – в первую очередь Франция с ее традицией лаицизма. Париж заявлял, что Конституция должна оставаться сугубо светским документом и что ссылаться только на одну религию (христианство), не упомянув другие, недопустимо в многообразной Европе. Французская сторона предупреждала, что выделение христианства может обидеть Турцию, рассматривавшуюся тогда в качестве потенциального члена ЕС. Против ссылки на веру возражали и некоторые скандинавские правительства, апеллируя к принципу разделения церкви и государства.
В итоге председатель Европейского конвента Валери Жискар д’Эстен предложил компромисс: говорить не о конкретной религии, а об общих духовно-культурных истоках. После напряженных дебатов была выработана нейтральная формулировка, вошедшая в проект: «вдохновляясь культурным, религиозным и гуманистическим наследием Европы».
Таким образом, прямых упоминаний христианства (как и иных религий) в тексте не осталось. Попытки ряда стран добавить слова о Боге или иудео-христианских корнях не получили консенсуса и были отклонены к июню 2004 года.
Ватикан охарактеризовал итоговый текст как «непризнание исторической очевидности». Официальный представитель Святого престола Хоакин Наварро-Вальс резко отозвался о решении Европейского совета. Ватиканская газета L’Osservatore Romano писала, что Конституция ЕС «смотрит в будущее, предпочитая игнорировать историческое прошлое». Сам папа Иоанн Павел II, обращаясь в июне 2004 года к паломникам, горько заметил: «Корни, из которых ты вырос, не отсекают!»
Стоит отметить, что параллельно шла общественная кампания за учет христианского наследия. В Европарламенте образовалась межфракционная коалиция, собравшая к концу 2003 года почти миллион подписей граждан под петицией о добавлении упоминания о христианстве. Однако, несмотря на поддержку церковных и общественных институтов, политический компромисс склонился в пользу светской формулы. В результате принятая формулировка преамбулы (которая затем перешла и в преамбулу Лиссабонского договора 2007 года) стала своеобразным кодом компромисса: признается вклад религии в европейскую цивилизацию, но без прямого названия конфессии. Этот эпизод выявил разный взгляд стран ЕС на соотношение религиозных корней и светской идентичности союза.
Религиозное наследие в институциях и дискурсах Евросоюза
Вопрос о христианских основах Европы проявляется не только в конституционных дебатах, но и в текущей политике и риторике институтов. Европейский союз официально провозглашает принцип «единства в многообразии», признавая вклад разных культур и традиций в свою идентичность. В преамбуле действующих договоров закреплено, что народы Европы черпают вдохновение из культурного, религиозного и гуманистического наследия континента. Хотя упоминание конкретно христианства отсутствует, сама отсылка к религиозному наследию подразумевает прежде всего многовековую христианскую традицию, которая наряду с античностью и Просвещением легла в основу европейской цивилизации.
В практическом плане начиная с нулевых годов реализован официальный диалог с церквами. Статья 17 Договора о функционировании ЕС (введенная Лиссабонским договором) обязывает институты союза поддерживать открытый и регулярный диалог с религиозными объединениями. Это отражение признания того, что церкви и религия – часть общественной жизни Европы, влияющая на ценности и политику. Например, Европейская комиссия и Европарламент ежегодно проводят встречи с Конференцией европейских церквей, Комиссией епископатов (COMECE) и др., обсуждая социальные и этические вопросы. Такой формат появился во многом вслед за дебатами о христианских корнях: светский характер союза был сохранен, но религиозные голоса получили институционализированный канал взаимодействия. Хотя прямое упоминание Бога в проекте Конституции ЕС отклонили, была зафиксирована уважительная оговорка о статусе церквей и их автономии в государствах-членах, что затем перешло и в действующие договоры.
Европейский парламент нередко становится ареной идеологических споров по вопросам культурно-религиозного наследия. Так, в 2003 году параллельно Конституционному конвенту в парламенте образовалась коалиция депутатов, собиравших подписи за упоминание христианства в Конституции.
В разное время депутаты от христианско-демократических и консервативных фракций (Европейская народная партия, Европейские консерваторы и реформисты) вносили резолюции, подчеркивающие необходимость учитывать «традиционные христианские ценности Европы» в политике ЕС – например, в вопросах семьи, защиты жизни, отношения к религиозным символам. С другой стороны, левоцентристские и либеральные силы стоят на страже секуляризма и равноправия конфессий. Показательно, что любые попытки официально выделить особую роль христианства (будь то в культурных программах или символике ЕС) встречают сопротивление с позиций светского гуманизма. Потому в официальном дискурсе предпочитают говорить об общечеловеческих ценностях, избегая конфессиональной риторики. Тем не менее неформально европейская культура признается пронизанной христианским наследием – об этом свидетельствует хотя бы то, что в европейских институтах по умолчанию выходными являются христианские праздники (Рождество, Пасха), а многие проекты ЕС в сфере культуры поддерживают сохранение европейского церковного искусства, архитектуры и т.д., трактуя их как часть общеевропейского достояния.
Таким образом, внутри структур ЕС установился хрупкий баланс: союз осознает свое христианско-культурное прошлое, но юридически и политически остается светским объединением, где религия – предмет уважительного диалога, а не законодательного закрепления. Всякий раз, когда вопрос об особой роли христианства поднимается (например, при обсуждении миграции, демографии или наследия Европы), стараются найти формулировки, учитывающие разнообразие – говоря об «иудео-христианских традициях» или «религиозном наследии» в целом. Это компромисс, выработанный еще в годы работы над Конституцией, и он же отражает дух девиза ЕС «Единство в многообразии».
Политическая риторика в защиту «христианской Европы»
В последние годы тема христианских основ Европы вышла на первый план в риторике правых и консервативных сил, особенно в странах Центральной и Восточной Европы. Для ряда лидеров эта идея стала элементом политической идентичности и противопоставления себя западноевропейскому либерализму.
Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в контексте миграционного кризиса 2015 года заявлял, что мусульманские беженцы угрожают демографически и культурно изменить Европу. «Не будем забывать, что люди, которые прибывают сюда, выросли в другой религии… Большинство из них не христиане, а мусульмане», – писал он в статье, предупреждая, что «христианская культура Европы едва способна поддерживать собственные христианские ценности». Его правительство воздвигло заграждения на границах и позиционировало Венгрию как «щит христианства» на рубежах ЕС.
В 2018 году, накануне выборов, Орбан еще ужесточил риторику, объявив: «Христианство является последней надеждой Европы». Он обвинил брюссельских и берлинских лидеров в упадке христианской культуры и продвижении ислама в Европе. Фактически Орбан провозгласил венгерскую политику хранительницей истинной европейской цивилизации в противовес «либеральному Западу». В Конституции Венгрии начиная с 2011 года прямо указано, что «государство защищает христианскую культуру Венгрии», а сам Орбан подчеркивает, что принятие христианства тысячу лет назад было условием выживания венгерского народа. Такое связывание национальной и общеевропейской идентичности с христианством – центральный элемент идеологии его партии.
Подобные мотивы звучат и в Польше. Партия «Закон и справедливость» (PiS) открыто апеллирует к католицизму как основе польской государственности и считает защиту христианских ценностей своей миссией на европейской арене. Лидер PiS Ярослав Качиньский заявлял, что «Польша либо будет христианской, либо ее не будет вовсе».
В 2019 году на фоне националистических маршей в День независимости Качиньский провозгласил: «Наша нация имеет миссию – сохранить всё то, что лежит в основе нашей христианской цивилизации. Мы будем идти этим путем...» Эти слова прозвучали на фоне толпы, скандировавшей «Бог, честь, отчизна!».
В государствах Южной Европы схожие тенденции проявляются в несколько иной форме. В 2018–2019 годах лидер партии «Лига», нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини демонстративно использовал религиозную символику в политике. Он выступал на митингах с четками в руках, публично целовал распятие и «поручал Италию Пресвятой Деве Марии», стараясь заручиться поддержкой католиков. На общеевропейском митинге националистов в Милане в мае 2019 года Сальвини, держа розарий, благодарил Иоанна Павла II и Бенедикта XVI за то, что «они напоминали Европе о ее христианских корнях».
В 2022 году к власти в Риме пришло правоцентристское правительство во главе с Джорджией Мелони, которая тоже подчеркивает приверженность «традиционным семьям», «христианской культуре Европы» и называет себя «женщиной, матерью, христианкой». Хотя риторика Мелони скорее национально-консервативна, чем клерикальна, Италия в союзе с Польшей и Венгрией все явственнее артикулирует общее стремление к «возрождению христианской Европы» против секулярно-либеральных трендов Брюсселя.
Религиозные лидеры занимают разные позиции по этому вопросу. Папа Римский Франциск уделяет больше внимания милосердию к мигрантам и универсальным ценностям, иногда критикуя националистов за закрытость. Предшествующий ему папа Бенедикт XVI еще до понтификата предупреждал об «отступлении Европы от Бога» и в 2005 году писал о духовном кризисе Запада, забывшего свои христианские корни. Главы национальных церквей в Польше, Венгрии, Италии, как правило, поддерживают риторику о защите христианских ценностей, хотя и стараются дистанцироваться от радикального национализма. Таким образом, общественно-политический дискурс вокруг христианской идентичности Европы сегодня весьма поляризован: для одних это источник гордости и ориентир политики, для других – риск дискриминации и нарушения светских принципов.
Американский правый дискурс и его влияние
Идея «христианской Европы» получила дополнительный импульс благодаря влиянию американских консерваторов в первый срок президентства Дональда Трампа (2017–2021). В эти годы наметилось своеобразное трансатлантическое сближение ультраконсервативных сил, оперирующих риторикой защиты «иудео-христианской цивилизации» от глобализма, секуляризма и миграции. Республиканская администрация США открыто поддерживала националистически настроенные правительства Европы. Трамп хвалил Орбана как «жесткого, но справедливого защитника своего народа», а официальный Вашингтон особо не давил на Венгрию и Польшу по вопросам демократии.
Ключевые фигуры американской правой сцены установили прямые контакты с европейскими единомышленниками. Бывший стратег Трампа Стивен Бэннон в 2018 году основал в Брюсселе организацию The Movement для консолидации правопопулистских сил Европы. Бэннон и другие представители трампистского крыла не раз подчеркивали, что Европа должна гордиться своими иудео-христианскими корнями и сопротивляться «исламизации» и «леволиберальным ценностям».
Сам Дональд Трамп в речах также апеллировал к цивилизационному единству Запада. В выступлении в Варшаве в 2017 году он провозгласил: «Мы должны защитить нашу цивилизацию – Запад – от тех, кто стремится ее разрушить». Он превозносил вклад Польши как нации, «спасшей свою душу при помощи веры», и говорил о том, что Запад основан на вере, семье и свободе. Эти слова американского президента европейские правые истолковали как поддержку их тезиса о необходимости вернуться к христианским основам.
Кульминации это сотрудничество достигло уже после окончания первого президентства Трампа: в августе 2022 года Виктор Орбан стал почетным гостем крупной конференции консерваторов США (CPAC) в Далласе. В своей речи он заявил американским и европейским единомышленникам: «Мы должны объединить наши силы». Орбан осудил «прогрессивистов» и «левые медиа» и призвал христианских националистов по обе стороны Атлантики совместно бороться за свои ценности. Его выступление, встреченное овациями, показало, насколько сблизились риторика и идеология трампистов в США и национал-консерваторов в ЕС.
Влияние американского дискурса проявилось в тематике «культурных войн», перенятой европейскими правыми. Например, противодействие однополым бракам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), гендерным нововведениям, абортам – все это поднято на щит как в республиканском лагере США эпохи Трампа, так и среди союзников PiS и партии Орбана. Католические деятели, близкие к Ватикану, заметили эту параллель. Так, священник Антонио Спадаро (советник папы Франциска) критиковал «альянс правых евангеликов США и европейских интегралистов», называя его извращением религии ради политики. Он указывал, что «иконы» Трампа (например, памятная монета с его изображением, выпускавшаяся евангелистскими кругами США) и методы вроде демонстративной молитвы на митингах – все это находит отклик в Европе (вспоминая розарий Сальвини).
Транснациональная риторика о «защите христианства» стала своего рода общей платформой для новой волны популизма и евроскептицизма. С другой стороны, такое смыкание вызвало ответную реакцию у оппонентов. Либеральные мыслители в Европе предупреждают об «импорте американского религиозного национализма». Критики отмечают, что ссылками на «Иисуса и свободу» прикрывается эрозия демократии и прав человека. Тем не менее нельзя отрицать: эпоха Трампа укрепила уверенность европейских правых в том, что их ценностная повестка (христианская идентичность, антииммигрантские призывы, традиционная мораль) – это часть глобальной борьбы. В результате в политическом ландшафте ЕС тема христианских основ приобрела новое звучание, становясь элементом глобального идеологического противостояния.
Исторический прецедент: Священная Римская империя
Размышляя о корнях европейской интеграции, нередко обращаются к опыту Священной Римской империи (962–1806), которая представляла собой попытку воплотить идеал «Respublica Christiana» – христианского сообщества народов Европы, связанных общими религией и правопорядком. Хотя сама империя отличалась феодальной раздробленностью и постепенно ослабла, ее многовековое существование показывает, что идея надгосударственного единства на основе христианства имеет глубокие исторические корни.
В современном дискурсе нередко проводят параллели между Евросоюзом и Священной Римской империей. Как отмечают исследователи, такие сравнения стали распространенным тропом с самого начала европейской интеграции в 1950-х годах. Оба образования характеризуются сложной, «многоцентровой» структурой власти, где сосуществуют разные уровни автономии и нет жесткой централизованной вертикали, свойственной национальному государству.
Подобно тому как император делил влияние с князьями, городами и церковью, в ЕС власть распределена между Брюсселем, национальными правительствами и региональными акторами, а принятие решений требует консенсуса множества участников. Политологи даже вводят для описания ЕС термин «неосредневековая империя» .
Этот образ используется и в положительном, и в отрицательном ключе. Евроскептики сравнивают ЕС с «развалинами империи»: мол, Евросоюз тоже обречен на постепенный распад под давлением противоречий. Такая аналогия звучала, например, в британских дискуссиях о брекзите. Другие, напротив, подчеркивают, что Священная Римская империя обеспечила века мира в Центральной Европе, объединив германские, итальянские, славянские земли на основе общей веры. Такой взгляд предполагает, что и современный ЕС мог бы черпать вдохновение в тех же принципах: децентрализация, уважение к разнообразию регионов, признание наднациональных ценностей. Сейчас, когда национальный суверенитет постепенно делегируется на наднациональный уровень в ЕС, некоторые называют это «возвращением к средневековой политической парадигме» – в новом, конечно, светском и демократическом обличье.
Не случайно и символы европейского единства обращаются к старинному наследию: ежегодно в городе Ахене вручается «Премия Карла Великого» за вклад в объединение Европы. Карл был провозглашен в 800 году императором, он считается духовным предшественником Священной Римской империи. Европейский ансамбль звезд на флаге ЕС некоторыми интерпретируется как элемент образа Девы Марии – покровительницы христианской Европы, изображенной с венцом из 12 звезд (хотя официально флаг светский). Так или иначе, христианско-имперское прошлое остается в европейской памяти и используется как богатый источник метафор.
Христианские основы Европы – понятие многослойное и противоречивое, но неотъемлемое от обсуждения идентичности. Исторически Европа формировалась под влиянием христианства, которое сотни лет определяло ее культуру, право и мораль. В послевоенный период эти ценности трансформировались в языке демократии и прав человека, но «христианская душа» продолжала незримо присутствовать – от риторики отцов-основателей ЕС до закрепления диалога церкви и государства в современных договорах. В XXI веке на фоне глобализации и миграции вопрос о христианской идентичности вспыхнул с новой силой. Одни политические силы видят в возвращении к корням панацею от кризиса ценностей и разобщенности, другие боятся, что подобный поворот нарушит принцип светскости и отчуждает нехристианские общины Европы.
Современная Европа пытается сохранить наследие христианства как культурный фундамент, не превращая союз в клуб по религиозному признаку. Однако события последнего десятилетия – рост популизма, противоречия с Брюсселем у ряда стран, внешние вызовы – привели к тому, что призывы к «защите христианской цивилизации» стали частью политического мейнстрима в некоторых регионах. Эти призывы часто служат маркером более широкого недовольства – миграционной политикой, мультикультурализмом, либеральной идеологией. Таким образом, тема христианских основ превратилась в знамя в борьбе за будущее Европы: будет ли она и дальше двигаться по пути светского постмодерна или обретет новую/старую идентичность, черпающую силу из веры предков.
Пожалуй, наиболее конструктивный подход лежит в признании очевидного факта: европейская культура немыслима без христианства, но столь же немыслима Европа и без наследия других эпох – античности, эпохи Просвещения, а ныне и без вклада неродных религий. Как сказал экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор, «нельзя влюбиться в общий рынок» – людям нужна общая идея, большая история. Современный Европейский союз, как некогда Священная Римская империя, стоит перед задачей примирить многообразие под единым началом. Найти правильное соотношение между духовным наследием и светским проектом будущего – значит в конечном счете понять и принять свою историю, извлекая из нее уроки для дальнейшего пути.





























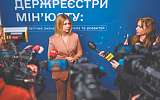
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать