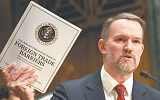Протоиерей Александр Шмеман. Дневники. 1973–1983. – М.: Русский Путь, 2005, 718 с.
Публикация дневников протоиерея Александра Шмемана (1921–1983), видного богослова, литургиста и одного из «отцов-основателей» Американской Православной Церкви, стала заметным событием в культурном пространстве России. О книге много говорят, небольшой тираж активно раскупается, и, по слухам, уже готовится переиздание.
Книга действительно производит эффект распахнувшегося окна в душном помещении. С первой же страницы как будто поток свежего воздуха врывается в сознание. Наконец-то кто-то говорит о самых насущных проблемах, волнующих пока еще многих.
И кто говорит? Человек высокой культуры, русский француз, русский американец, православный священник, битник. Битник? Да, именно так лучше всего толкуется французское слово flaneur, которым называет себя отец Александр в последние годы своей жизни. «По природе своей je suis un flaneur (я фланёр, праздношатаюшийся). Не «мечтатель», а именно flaneur. Мечтатель «не замечает» окружающего его мира, он живет в своей «мечте». Но у меня никакой мечты нет, она мне не нужна. Напротив, я все замечаю: дома, окна, оттенок света, луч, падающий на крышу. Flaneur – это тот, кто сильнее всего ощущает le temps immobile» (по-французски «неподвижное время», т.е. вечность сквозь время).
Чем не начало лучшего текста, который мог бы написать, скажем, знаменитый американский писатель Джек Керуак? Ведь, по его классическому определению, английское beatnik восходит к beatific (блаженный) и русскому «спутник» и означает человека, выше всего ценящего эти внезапные состояния «вечности сквозь время». «Путник блаженства», которое может посетить, «когда, перед тем как идти в церковь, я вышел на балкон и проезжающий внизу автомобиль ослепляющее сверкнул стеклом, в которое ударило солнце».
Существенная разница между историческим битником послевоенного Запада и отцом Александром в том, что Керуак и другие искали этих состояний при помощи алкоголя, наркотиков и ухода в «ориентальщину», тогда как для отца Александра возможность этих состояний обусловлена существованием Церкви. Более того, «Церковь для того только и нужна в своей «эмпирии», чтоб этот опыт был, жил».
Немногочисленные, но волнующе убедительные описания опыта таких внезапных «контактов с реальностью Присутствия», или «эпифаний», в архитектуре «Дневников» являются окнами, через которые на читателя веет «глас хлада тонка» (3 Царств, 19:12). «Лучи солнца из огромных окон, музыка под сурдинку, льющаяся отовсюду и ниоткуда, и вдруг – это полное единство со всем, что тебя окружает, точно все предметы как-то мягчают, оборачиваются к тебе дружбой, близостью. Это мгновение вне времени, но в нем собирается, сосредотачивается вся жизнь».
«Реальность: еще вчера ее ощутил, идя в церковь к обедне, рано утром, в пустыне зимних деревьев, и затем этот час в пустой церкви, до обедни. Всегда то же ощущение: времени, наполненного вечностью, полноты, тайной радости».
Радость является ключевым словом для богословия отца Александра. Он определяет ее как «субстрат жизни», потому что опыт «абсолютной радости», «радости ни о чем, радости оттуда» централен для человека. Он становится «самой глубиной души и потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни и т.д.». Радость – это главный критерий истинной религии. «Начало «ложной религии» – неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем радость так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться».
«Настоящая вера есть всегда возврат к простоте – радостной, целостной и освобождающей». Неизбежен вопрос: где же эти радостные светлые лица божьих иереев, где цельные люди, идущие по жизни «в бодром покое» (С.И. Фудель), источая тепло?
Здесь мы подходим вплотную к основной теме «Дневников». Несмотря на обилие в книге всегда остроумных и зачастую глубоких размышлений на такие разнообразные темы, как политика, культура, русская эмиграция, феминизм, гомосексуализм, «еврейский вопрос», Америка и др., основное в ней – это прямая речь о наболевшем в Церкви. На пятьдесят втором году жизни у отца Александра вызрела настоятельная потребность «самому себе объяснить, к чему все это сводится».
«Что нужно собственно объяснить? Соединение┘ какой-то глубочайшей очевидности той реальности, без которой я не мог бы дня прожить, со все растущим отвращением к этим безостановочным разговорам и спорам о религии, к этим легким убеждениям, к этой благочестивой эмоциональности и, уж конечно, к «церковности» в смысле всех маленьких ничтожных интересов».
Почему «церковность», которая «должна бы освобождать, в теперешней ее тональности не освобождает, а порабощает, сужает, обедняет»? Что произошло? Этим грустным размышлениям посвящены многие страницы «Дневников». В общих чертах ответ Александра Шмемана, обладавшего острым историческим чутьем, сводится к следующему: на определенном историческом этапе постепенно произошла подмена, и «вместо того, чтобы учить его (человека) по-своему смотреть на мир, на жизнь, Церковь учит его смотреть на саму себя».
Ведь «религию можно любить совершенно так же, как что-либо другое в жизни: спорт, науку, собирание марок. Любить ее за нее саму, без отношения к Богу или миру или жизни. Она сама «занимает» и «занимательна». Тут все, что любит особый тип человека: и эстетика, и тайна, и священность, и чувство собственной важности и «исключительности», глубины и т.д. Но эта религия совсем не обязательно вера, и в этом-то и вся трудность «религиозной проблемы». Люди ждут и жаждут веры – мы предлагаем им религию». И вот они, «вместо того чтобы по-новому принять самого себя и свою жизнь, считают своим долгом натягивать на себя какой-то безличный, постным маслом пропахший камзол так называемого благочестия».
У некоторых этот синдром в дальнейшем проходит и вырабатывается более глубокое и одновременно более простое ощущение Церкви вне времени. Но это у некоторых, а сколько вокруг перекошенных или совсем отпрянувших от Церкви, которые нашли в ее «эмпирии» ту же фальшь и невроз, что и в мире, и не успели проглянуть за? Когда даже у самого отца Александра прорывается: «С каким вздохом облегчения уезжаешь из этого мира ряс, чмоканья рук и церковных сплетен. Только отъехал – и вдруг видишь: мокрые голые ветки, туман, в котором исчезают поля, деревья, дома. Небо. Наступающие сумерки. И все это говорит какую-то невероятно простую правду».
Но, несмотря на все это «человеческое, слишком человеческое», Церковь стоит, и опыт живет. В царящем мороке смыслового хаоса и виртуальных симуляций мы учимся все более ценить эту по-прежнему даруемую нам возможность «вздохнуть с тою глубиною и сладостью, с которой вздыхает человек в те редкие и драгоценные минуты, когда душа его полна невинным, кротким и мгновенным счастьем» (Константин Леонтьев).
Ведь счастье это свидетельствует «о Том, Кто не читает даже православнейших журналов» (В. Вейдле в письме отцу Александру).