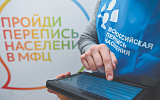Елена Лапшина. Всякое дыхание.
– М.: Русский Гулливер, 2010. – 60 с.
В апреле 2010 года Елена Лапшина получила первую премию международного конкурса духовной поэзии «Псалмопевец». Думаю, Лапшина полностью разделяет мысль Ольги Седаковой о том, что «Московский дворик» Поленова гораздо более религиозное полотно, нежели «изделия» Глазунова, потому что настоящая религиозность – прежде всего в глубокой личной вере, а не в выбранной тематике. В этом смысле героиня стихов Лапшиной словно выросла в тихой благодати подобного московского дворика, где «┘Смородиновый чай, кузнечики у ног,/ Сомлел соседский кот на плиточной дорожке┘».
В стихах Лапшиной нет бунта, как в лирике Геннадия Русакова, герой которого не может простить Богу утраты любимой, нет сказовости Сергея Стратановского, как в его «Смоковнице», недавно получившей новомирскую «Антологию», нет и седаковской аскезы, в которой поэзия четко противопоставлена мирскому хаосу. Стихи Лапшиной – тихи.
При чтении нового сборника невольно всплывают в памяти строчки Беллы Ахмадулиной, исполненные Пугачевой от лица главной героини «Иронии судьбы», вынесенные мной в заглавие рецензии. В речевом жесте Лапшиной – тот же молчаливый укор миру, то же желание тиши библиотек, то же желание встать на цыпочки в темном лесу одиночества. Но сходство с Ахмадулиной в данном контексте больше тематическое – с точки зрения метафорики и музыкальности языка поэзия Лапшиной родом из Серебряного века.
 Главное в побеге – не оборачиваться! Альбрехт Дюрер. Лот, убегающий с дочерьми из Содома. 1498. Национальная галерея искусств, Вашингтон |
Лейтмотив «Всякого дыхания» – смиренно принятое из рук Господа сиротство, расплата за грехи праотцов и собственную греховность. Земное сиротство, однако, не символизирует богооставленности, но говорит о жаркой, глубоко сокрытой внутри вере, неусыпно диктующей одну и ту же, единственно правильную модель поведения, увечному, «рыбьему» человеку, в суете сует забывшему о Боге:
┘Неусыпным оком гляди во тьму,
серебристым телом – плыви, плыви┘
И не думай: – Это зачем Ему? –
все, что Он ни делает, – от любви.
Не ропщи, что речь твоя отнята,
не по небу ходишь, не по земли.
Если рыбе дадена – немота, –
то самим дыханьем Его хвали.
(«От Земли поднимутся холода┘»)
В этих строках – ритмическая жесткость формулировки и почти мужская интонация не случайны: в поэтическом сознании Лапшиной – дольний мир – тяжелая дорога до Голгофы.
В ином стихотворении сборника героиню Лапшиной настигает та же кара за нетерпение сердца, что и жену Лота, бежавшую из обреченного на адовы муки Содома и оглянувшуюся на горящий город. Мир, лишенный Благой Вести, воспринимаемой как долгожданный глоток свободы, настолько усыпан солью и солон на вкус, что героиня сеет соль, как если бы это было обыкновенное пшено. Соляная метафора, рожденная библеизмом («соляной столп»), постоянно обретает новые смыслы, в итоге символизируя черствость, закупоренность чувств, проистекающих от томительности и бесплодности ожидания. Читая эти строки Лапшиной, вспоминаешь хорошо известное русской поэзии XX века горькое ощущение обиды: «Так писем не ждут,/ Так ждут письма»:
Я весть о тебе такую
ждала, – как Благую Весть.
Я так по тебе тоскую,
как будто ты вправду есть.
И жаждой своей недужной
я мучаюсь, как виной.
Как столп становлюсь – бездушной,
бессмысленной, соляной.
┘Дольний мир в поэзии Лапшиной увиден сквозь полузапотевшее стекло, словно бы Лапшина, сама того не ведая, взялась оправдать одну из ахматовских установок – зеркалить и двоить образы. Но даже в этом зазеркалье героиня Лапшиной чутко чувствует незыблемость устоев, мерность и постоянность капли, точащей камень дней, как в блоковской «Аптеке┘». Эта повторность подспудно вызывает в памяти известные слова Экклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Тем ярче, однако, оживают, на фоне этой неизменности и мерности извечного, краски погожей осени в деревенской глуши, скрип обозов, птичье квохтанье, запах прелого листа. Образы зримы и полны элегичности:
И глохнет тишина от голосов утиных,
и пахнет первачом опавший прелый лист,
холодная роса висит на паутинах,
и яблочный послед скуласт и мускулист.
Тончает и сквозит все зримое воочью,
но хочется еще отодвигать итог,
и рано засыпать, и просыпаться ночью,
и слушать между стен мышиный топоток.
(«Я знаю эту хворь, на грани невозврата┘»)
Пейзажные зарисовки «Всякого дыханья» рефлексивны, меланхоличны, но не лишены при этом живости слова, его энергетики, живительной способности уверовать в нужность зажигающихся звезд.
В одном из стихотворений Лапшина рассказала библейскую историю о том блаженном состоянии вселенной, где «на дудочке играет юный Каин» и «Адам еще наивен, как дитя». Эти образы как нельзя лучше передают состояние поэтического сознания Лапшиной, лирическая героиня которой хотя и наивна, но подспудно, пророчески знает о том, что случится на ее пути, и жадно ловит в далеких отголосках затихнувшего гула мельчайшие предзнаменования будущего.