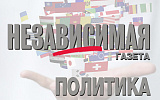Максим Лаврентьев. На польско-китайской границе.
– М.: ЛУч, 2011. – 88 с.
Главное, на что обращаешь внимание, читая эту книгу, – необычное соотношение времени и пространства внутри поэтического текста. На первый взгляд стихи Максима Лаврентьева очень конкретны – его лирический герой чаще всего находится в легко узнаваемых местах Москвы или Петербурга, где и предается воспоминаниям и размышлениям. Но пространство, в котором происходит действие стихотворений этого поэта, вовсе не ограничивается описываемыми в них городскими улицами или парками – оно может сужаться или расширяться в любом направлении в зависимости от поставленных автором задач. То же самое можно сказать и о времени – с одной стороны, начиная читать, видишь, что речь в книге идет либо о сегодняшнем дне, либо о самом недавнем прошлом, с другой – появляется вскоре четкое ощущение, что это не совсем так.
Многие стихотворения Лаврентьева выстраиваются по принципу логической цепочки, часто используемому в произведениях классических авторов XIX века: конкретная местность (предмет, образ и т.д.) вызывает в душе лирического героя некое личное воспоминание или переживание, которое, в свою очередь, приводит его к мыслям о внеличностном и вневременном. Но тут все происходит несколько иначе: реальные предметы, топонимы или явления, помещенные в пространство поэтического текста, не просто являются составными частями окружающего мира, существующими здесь и сейчас и в то же время вызывающими у некоторых людей, на них смотрящих, какие-то ассоциации, фантазии или мысли о прошлом и будущем.
Важно, что именно в этих предметах, топонимах и явлениях, а не в сознании человека прошлое и настоящее, личное и надличностное, обыденное и высшее сливаются в одно, и человеку остается только пытаться воспринять этот мир таким, какой он есть. «Кто скажет, что мы – посредники/ Между двумя мирами,/ Когда мы идем по Сретенке/ Прямо или дворами,/ В потертой джинсе из Турции,/ В обуви made in China./ (Одетые по инструкции,/ Это – секрет и тайна.)»┘ «Сложное скрывается в простом», как говорится еще в одном стихотворении сборника, а также в привычном, и через это простое или привычное оно и становится видимым, слышимым, осязаемым.
Только в искусстве и в природе все надмирное и прекрасное воплощается наиболее ярко и полно – отсюда постоянное обращение поэта к теме «священной силы искусства» и Вечности, отсюда и мотив сада (метафизического, мифического, но никогда – реального), а также мотив отдельного дерева (от прилипшего к оконному стеклу листка до Древа жизни, символизирующего созидающее начало мира.
Описывая свои мысли и наблюдения, автор словно хочет сказать: на свете по-настоящему существует лишь то, что способно содержать в себе высшую, Божественную основу, и вместе с тем только видимые нами предметы и явления помогают человеку почувствовать эту основу внутри себя и всего того, что его окружает, понять, что основа эта действительно есть и что только благодаря ей существует все остальное, внешнее и привычное. Например, любая музыка, даже самая прекрасная, всегда возникает из пустоты и, прозвучав, туда же уходит, сама по себе она не имеет отношения ни к чему земному, но, если бы не было флейты и живого дыхания, проходящего через инструмент от губ музыканта, никто не смог бы эту музыку услышать.
 Одно из прогулочных мест лирического героя. Усадебный пруд, превратившийся в заводь у телебашни. Василий Раев. Вид пруда, церкви и дворца в подмосковной усадьбе гр. Шереметьевых «Останкино» при утреннем освещении. Ок. 1858. Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени |
Тем и прекрасен этот мир – противоречивый, сложный и вместе с тем наполненный изначально Божественной пустотой, дающей высшее обоснование земной жизни. И лишь искусство способно не только улавливать гармоническую сложность сотворенного мира, скрытую за мнимой простотой повседневности, но и точечно фиксировать ее – хотя бы во внешних ее проявлениях. «Тут слово, там строка,/ Здесь целая строфа, –/ Троллейбус и собор/ Становятся стихами./ Заметно, что мосты/ На берегах Москвы/ Повисли без опор / Над смутными веками.// Вот платный туалет./ Вот бронзовый поэт./ Небесные моря/ Над головой поэта./ Я в городе моем!/ Я знаю, что о нем/ Напишется моя/ Последняя поэма.// Мне тополь и трамвай/ Прикажут: «Эй, вставай!/ Пора чесать домой –/ В Останкино, в Кусково»./ Тут словом, там строкой,/ Здесь целою строфой/ Любимый город мой/ Меня окликнет снова». Именно такое понимание окружающей действительности позволяет поэту объединять в предельно лаконичном или широко развернутом тексте того или иного стихотворения разные временные и пространственно-культурные пласты – прошлое и настоящее («Парк во времени»), Восток и Запад («Одинокая джонка»), мгновенное и вечное («Арджуна и Кришна») – и все всегда оказывается на своем месте.
Глубокое содержание стихотворений, выраженное привычным нам языком сегодняшнего дня, естественно помещается поэтом в рамки строгих классических размеров, которые, благодаря разнообразию ритмических рисунков и небанальности узловых рифм, не выглядят устаревшими, а наоборот – в прямом смысле этого слова доказывают своим существованием в этой книге, насколько силлабо-тоническая система долговечна и внутренне, органически присуща не только поэзии Золотого и Серебряного веков, но и современному русскому стихосложению.