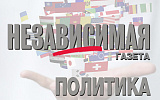Кирилл Кобрин. Письма в Кейптаун о русской поэзии и другие эссе. - М.: Новое литературное обозрение, 2002, 128 с.
Литератору, историку, публицисту Кириллу Кобрину удается оперативно объединять свои эссе в очередной компактный томик, ловко сколачивая композиционный каркас и сюжетную рамку. Несколько месяцев назад мы писали о "Книжном шкафе Кирилла Кобрина" - собрании толстожурнальных рецензий. Совсем недавно в новом издательстве "Прагматика культуры" вышли "Гипотезы об истории" - но это по ведомству другой экслибрисовской полосы. Еще одна недавняя кобринская книжка - "Письма в Кейптаун". "Основу сборника составляет┘ эпистолярий, в котором автор вел своего рода лирический дневник, посвященный лирике". Лирический эпистолярий. Эпистолярный дневник. Дневниковый сборник. Посвященный лирике. Итак.
Половина книги - действительно "Письма". Этот краткий эссеистический цикл начинается вполне в духе только что процитированной мной витиевато-виньеточной аннотации. Сложная инстанция адресата воплощается в образе далекого друга Пети, некогда ценителя стихов, а ныне кейптаунского винодела: "В конце концов разве нынешняя отечественная публика не тот же самый Петя Кириллов, за десять лет не заглянувший ни в одну новую русскую книгу (истинно художественную, конечно)? И вообще кто сейчас оный "русский читатель" - бур-африканец, зулус, ковбой, танцор фламенко, исландский программист, дублинский городовой? Кто вообще его, "русского читателя", видел?" Вино символизирует поэзию, вино и географические перемещения - посвященную лирике лирику, кейптаунский порт - пробоину в борту. Замысловатые метафоры, метафорические замыслы. Вовремя упомянуты Померанцев с его "Красным сухим" и Бродский с его странной манерой писать письма - "Не "ниоткуда с любовью", а "никуда с любовью". Первое письмо - про любовь к поэзии. К шестому и последнему становится ясно, что автор "Писем" на глазах условного читателя Пети провел абсолютно сознательный сеанс саморазоблачения.
Исходная задача - рассказать о поэзии вообще - решается Кириллом Кобриным совершенно блестяще: каждое письмо снимает новый слой представлений вообще о поэзии. Вот, смотрите. Шаг первый - желание сделать собственную подборку, отсортировать то, что нравится. Зима 2000 года. Доверчивый оптимизм - "Трудно беспристрастно сказать, какую из эпох мы переживаем сейчас (я-то уверен, что возрождения!)". Владимир Гандельсман, Борис Рыжий, Алексей Кокотов. Шаг второй - изобретение тематической рамки; самая очевидная рамка - "литература и история". Владимир Салимон, Лев Лосев, Дарья Суховей, Филипп Минлос. Шаг третий - попытка разобраться с мейнстримом: "Его генеалогия довольно скудна и включает в себя Тарковского и Слуцкого, поздних Заболоцкого и Пастернака; иногда (по культурно-географической склонности) либо Мандельштама, либо Есенина, либо Ходасевича. Подавать, припудрив пыльцой с раздавленных набоковских бабочек. Среди классиков жанра - Чухонцев, Рейн, Кушнер. Список открыт". Шаг четвертый - намерение сориентироваться среди переставших выполнять свою функцию ориентиров: "Последние три десятилетия уравняли в правах авангард с традиционализмом - для концептуалиста, для центонщика все было едино, все культурный перегной. Теперь он сам попал в гумус, и все смешалось: араб, его лошадь, стремена и подпруги, и даже изречение из Корана, вышитое на тюрбане". Ярослав Могутин, Юрий Колкер, Геннадий Барабтарло. Шаг пятый - "Стихи - опасная штука для русского человека, Петя". Смерть Бориса Рыжего. Замешенная на романтизме русская поэзия либо превращает поэта в "бесчувственное чудовище", либо убивает его наповал. Во всяком случае, именно так заставляет полагать замешенная на романтизме риторика говорения о поэзии. Шаг шестой. Кощунственный. Осень 2001 года. "Никогда еще людям не демонстрировали с такой наглядностью - Красота находится по ту сторону страданий, жизни и смерти. Эстетическое вовсе не противостоит этическому, оно к нему безразлично. Поэтому идеальное произведение искусства имеет отношение только к смерти. Поэтому и создать его смогли лишь зомби, ставшие орудием в руках гениального сумасшедшего. Писать стихи после 11 сентября, нет, не невозможно, но очень трудно: каждый честный поэт теперь знает о тщете своих попыток". Писем, понятно, больше не будет. "Шиш вам! Брянский!"
Еще один раздел сборника - "Пушкин и другие" - состоит большей частью из очень правдоподобных и очень произвольных гипотез о том, как формировались конструкты "нашего всего" - Пушкин и Вяземский, Пушкин и Кюстин, Поэзия и Литература, Литература и История. Сюда же, очевидно, для асимметрии, попали статьи о Теофиле Готье, Лидии Гинзбург и об Андрее Левкине, с которым кейптаунцу Пете так и не довелось познакомиться ("Ах, друг мой, зачем возложил ты на меня эту тяжелую ношу писать о поэзии, почему не о прозе?.. А то описал бы я тебе изумительную новую книгу Андрея Левкина┘").
Финальная заметка позволяет закольцевать композицию - Владимир Гандельсман, сборник "Тихое пальто", медленное чтение. "Оказывается, ты играл все-таки, играл с жизнью, играл, как Овайн с королем Артуром, - и действительно, каждый ход в игре менял ход этой самой жизни, как бы ты ни изображал незаинтересованность в исходе, как бы принужденно ни зевал, поглядывая в окно, и тебя опять обыграли, и результат - гробик, кладбище". Сборник кобринских эссе целенаправленно посвящен заведомо проигрышной схватке с поэзией. Свободный критический стиль, заимствующий с миру по нитке - что-то у постструктуралистов, что-то у новых историков, что-то у традиционных отечественных литературоведов, - но наделяющий себя способностью говорить о жизни и смерти, свободно признает собственное бессилие. Он не в силах раздавить этого монстра, этого вампира, эту тщеславную, питающуюся буквами и кровью гадину. Которая все равно не дает говорить ни о смерти, ни о жизни - ни о чем, кроме нее самой, поэзии. Пробоину во рту не заделать. Тихое чтение, медленное пальто: "Ты надеваешь его вместо скафандра и выплываешь прочь, только не в Индийский океан, а в еще одно, еще одно воспоминание".