Работа с языком, будь то поэзия или нюансы грамматических форм, главная для Павла Кричевского. Он поэт и педагог. Мыслит оригинально и порой парадоксально, но обязательно точно – и это проникает и в текст, и в речь. Находясь между традиций метареализма в изводе Алексея Парщикова и «актуального» стиха через переосмысление Аркадия Драгомощенко, Кричевский создает уникальный мир, в котором говорит о вечных категориях, находя новые определения для всего окружающего, воссоздавая его, становясь демиургом. С Павлом КРИЧЕВСКИМ поговорил Сергей ТРИФОНОВ.
– Павел Зиновьевич, с чего началось ваше увлечение поэзией?
– С того момента, когда я в детстве открыл томик лирики Лермонтова. Помню, что и до этого думал о словах, представлял их в виде летающих вокруг птиц. Но строки Лермонтова перевернули подобное представление о жизни: «Тучки небесные, вечные странники!/ Степью лазурною, цепью жемчужною/ Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники…» Меня пронзило ощущение, что любые птицы хотят есть и спать, даже птицы-слова, в том числе мои. Поэтому и летают – ищут еду-добычу и приют, боясь потерять тело. Лермонтов подсказал, что небесные тучки могут существовать только в качестве изгнанников, и этой свободы у них никто не отнимет. Это ощущение и породило во мне «предчувствие метафоры» – я знал, что впечатлениями от строк Лермонтова ни с кем не смогу поделиться, потому что не буду понят. И хотя после через мою жизнь проходили многие поэты разных стран и эпох, первые поэтические впечатления остаются сильнейшими.
– А иностранные языки? Было ли как-то связано то, что вы стали педагогом, с увлечением языком вообще, в том числе поэтическим?
– Мне всегда нравилось копаться в языке, и чем больше я углублялся в его изучение, а попутно расширял «поэтическую эрудицию», тем больше эти процессы стимулировали интерес к языкам вообще. Так незаметно одним из главных мотивов моей работы преподавателя-филолога (конечно, со студентами высоких уровней) стало продвижение вглубь и вширь грамматической формы. Вглубь – обсуждая отдельно взятые грамматические явления. Вширь – обогащая литературный контекст, находя примеры в текстах англоязычных поэтов разных эпох.
– С 1993 года вы живете в России, вначале преподавали в школе, теперь занимаетесь с учениками частным образом. Как за это время изменились методики преподавания языка?
– Методика преподавания английского языка за последние 30 лет повернулась на 180 градусов. Как такового обучения коммуникации в советское время и первые постсоветские годы не было; ни учителя, ни методисты не знали, как научить общаться тех, кто к этому стремился, – страна пожинала плоды многолетнего железного занавеса. В результате торжествовал лексико-грамматический подход: учащихся заставляли заучивать слова, грамматические правила, правила чтения и «топики» – написанные русскоязычными учителями устные сообщения на определенные темы. Надо ли уточнять, что к языку, на котором разговаривают его носители, они не имели отношения. Когда американский поэт Роберт Фрост приехал с визитом в Москву и была организована встреча с учителями и старшеклассниками элитной специализированной школы по английскому языку, она закончилась провалом: собеседники попросту не поняли друг друга. Все изменилось в конце 90-х, когда в страну хлынул поток аутентичных учебников, методических пособий и преподавателей – носителей языка.
– Вы начинали как поэт, следующий, так скажем, классической традиции. Чем изначально вас тогда привлек силлабо-тонический стих?
– Человек пишущий – в огромной степени плод того, что он читает. Мой «поэтический менталитет» был сформирован русской классической поэзией. И хотя в ней хватает примеров свободного стиха и ритмической прозы (от Сумарокова, Жуковского до Языкова, Пушкина, Лермонтова и других) – одно только лермонтовское «Синие горы Кавказа, приветствую вас!» чего стоит! – в юности и ранней молодости свободный стих, и в частности верлибр, виделся мне интересным, но скорее маргинальным явлением. Моя жизнь читателя и стихотворца-дилетанта происходила почти исключительно в пространстве силлабо-тоники. Я говорю об этом без сожаления и высокомерия по отношению к моей тогдашней жизни. Такие исключительно значимые для меня поэты XX века, как Мандельштам, Тарковский, Чичибабин, Бродский, Фрост и многие другие, писали в основном силлабо-тоникой, и их стихи прекрасны.
– А почему перешли на верлибр? Было ли это для вас экспериментом – или завершившимся поиском?
– Это стало итогом многолетних поисков, хотя, признаюсь, я и начинал с эксперимента: первые две тетрадки юношеских стихотворений были написаны хаотичной смесью белых стихов и верлибров. Их постигла печальная участь: настолько эти стихи казались мне далекими от «правильного» письма, что тетрадки отправились на растопку мангала… Свободный стих, в частности верлибр, был для меня чем-то маргинальным и этим-то со временем и стал привлекать. Я с любопытством вглядывался в пограничные явления («Что меня интересует? – нуль и ноль», – писал Хармс, и этот текст в свое время ошарашил меня и заставил много думать), чем, собственно, и является маргинальность. Чем дальше от центральных/официальных эталонов культуры, чем ближе к границам общепринятого, тем больше вероятность встретить «лица необщее выраженье». С другой стороны, зачитываясь древнегреческой меликой, древнеримской лирикой, античными мифологическими поэмами, эпосом, я чувствовал странную тревогу: если рифмованная силлабо-тоника видится многими безальтернативной, а рифма полагается основой всех основ, почему главные тексты мировой поэзии написаны иначе? Неужели Пиндар, Проперций и Овидий не умели рифмовать? Или в поэзии есть нечто более важное, чем созвучия в окончаниях? После тучек небесных и пустыни, внемлющей Богу, мне было понятно, что если поэзия не самый чистый и острый способ познания себя, то это не поэзия, а нагромождение фальшивых красивостей. Когда в 90-е книжные полки оказались заполнены поэтами классиков авангарда и андеграундной литературой 1950–1980-х, от вопроса, правомерна ли монополия строгой силлабо-тоники, было уже не отвертеться. Хлебников, Крученых, Вагинов, другие обэриуты, с одной стороны, Всеволод Некрасов, Айги, Бурич, Кривулин, лианозовцы, хеленукты, Пригов и метареалисты (в первую очередь Парщиков), с другой – процесс смещения границ и расширения поэтической вселенной стал перманентным. Поэзия открылась во многих измерениях, и оказалось, что они не зачеркивают и не исключают, а вглядываются и дополняют друг друга. А после погружения в новейшую американскую поэзию и отечественный немейнстримный верлибр (особенно в тексты Аркадия Драгомощенко и «актуальной» поэзии) и личного осознанного перехода на это письмо стало ясно, что поиск формы завершен, что верлибр именно такого рода дарит мне свободу познания себя.
– Что для вас главное в поэзии другого (той, которую вы читаете) и в своей поэзии (той, которую вы пишете)?
– В поэзии, которую я читаю, меня цепляет новое – то, что не существует нигде, кроме этого текста. Речь не только о новизне высказывания, в некотором роде не существует ни верлибра, ни силлабо-тоники – это всего лишь способы «вытащить» несуществующее из небытия. «Верлибра не существует», – говорил Томас Элиот. Поэзия тоже – только термин, и он – компромисс, попытка как-то назвать несуществовавшее и вдруг увиденное поэтом. Поэтому так велика ответственность за выбор слова и выбор формы. Потому-то и нет преимущества ни у верлибра, ни у силлабо-тоники. Борьба идет не между ними, а за слова, вызывающие несуществующее к жизни. Поэзия – это свобода поиска Слова. Другое дело, что в нынешней экзистенциальной ситуации верлибр позволяет если не «достать до дна», то есть назвать неназванное, то хотя бы приблизиться к этому дну. «Освобождение от рифмы может стать и освобождением самой рифмы» – и это тоже слова Элиота. Что до моей поэзии, то самое важное для меня – прогулки по языку в поисках несуществующего, попытка дать ему существование. Выразить то, что Лин Хеджинян назвала ошеломляющим переживанием беспредельности и неопределенности мира.
– Какую роль в вашей поэзии играет метафора?
– Метафора исключительно важна для меня. Когда я пытаюсь увидеть мир подлинным, метафора проникает в большинство текстов, иначе «миссия невыполнима». И напротив, когда читатели пишут мне, что метафоры в моих стихах «исцеляют шокирующей правдивостью» (это реальная цитата), вместе с благодарностью приходит осознание, что мне порой удастся заглянуть за горизонт обыденного. Ведь метафора – прежде всего свобода, язык, лишенный насилия. И если обыденный язык – биологическое явление, то поэтический образ и метафора – освобождают. По наблюдению Гастона Башляра, «поэт говорит на пороге бытия», а поэтический образ – это «постоянное мерцание между субъектом и объектом». При этом метафору я понимаю не как слово, которое употреблено в переносном значении. После метареалистов такое понимание недостаточно и непродуктивно. Сегодня метафора – это встреча равноправных миров, познающих друг друга путем соприкосновения, и вся скорость (суть) метафоры – в этом сближении. Рассуждая о метафоре Парщикова, Андрей Тавров говорит о «радостном акте внесловесного и внелогического прыжка от одного далекого к другому, осуществляемого в пространстве чистой потенциальности, где ВСЕ ВОЗМОЖНО», и это наблюдение не только очень точная характеристика текстов Парщикова, но, как мне кажется, весьма продуктивное определение метафорического письма в целом.
– Андрей Тавров в предисловии к вашей недавней книге «Периферийное зрение неба» находит у вас связь с Беньямином (например, ауру предметов/образов и культ в смысле подлинности). Мне кажется, тут можно провести линию дальше, к Платону…
– У Таврова прочерчена связь с Беньямином и далее – с Прустом, и это наблюдение важно для меня. Все трое: и Пруст, и Беньямин, и Тавров – исследуют поэтическое пространство («прыжок от одного далекого к другому», если вернуться к тавровскому определению метафоры). Касаясь поэтики культа, которую Тавров находит в моих текстах, он обращает внимание на одно из свойств, отмеченных Беньямином: «Несократимая дистанция – основное качество культового изображения». Это непосредственно связано с его же (Беньямина) определением ауры: «Странное сплетение места и времени: уникальное ощущение дали, как бы близок при этом рассматриваемый предмет ни был». Интерес к поэтическому пространству и заполняющему его «веществу поэзии» начался у меня с чтения древних греков, в частности Платона. Циркуляция невидимого огня между глазом и предметом, чем древние греки считали зрение, у Платона трактуется как одновременное встречное течение световых лучей из глаза и предмета. Эти лучи сливаются в «зрительное тело», не принадлежащее уже ни глазу, ни предмету. При этом внешний (например, дневной) свет для Платона вспомогателен, а «ток зрительного света» – это и есть живая ткань зрительного тела, притом что разные цвета то сжимают, то расширяют зрительный огонь. И хотя отношение к поэтам и поэзии у Платона довольно противоречиво, зрительные тела и зрительный огонь, как по мне, – чистое вещество поэзии.
– Один из самых сильных циклов новой книги – «Родные и близкое» – посвящен истории вашей семьи, попавшей в жернова Великой Отечественной. Вы ее написали совсем в другом стиле, практически без метафор, хотя и максимально откровенно…
– Мне кажется, цикл получился таким откровенным именно потому, что я пытался преодолеть силу, которая притягивает к семье, посмотреть на семейную историю со стороны и… не смог этого сделать, хотя и рискнул раскрыться, не скрывая боль. Чем избежал цинизма излишней документальности – я допускал некоторые «искажения», но совсем небольшие. Мне дороги строки Андрея Таврова об этом цикле, которые позволю себе процитировать: «Это сдержанное и документальное описание «Ада»… Смерть здесь – это не фигура речи, а кровь – не рифма к слову любовь, а то, что выходит из человека, если в него стреляют».
Семья для меня – всё, и без семьи я – никто. История семьи священна. Либо эта история хранится человеком, либо нет. Это личное дело каждого.
– Знаю, вы любите путешествовать, но больше всего вас радуют итальянские пейзажи и достопримечательности Рима. Даже итальянский язык изучаете! Скажите, чем вам так дорога Италия?
– История моей любви к Риму и Италии в целом тоже коренится в детстве. Мама работала заведующей исторического отдела краеведческого музея, и у меня был доступ к их очень богатому книжному фонду. И хотя мама, обожающая древнегреческую культуру, старалась передать любовь к ней (и, нужно сказать, добилась больших успехов – Гомер, Гесиод, Эсхил, Софокл, Платон, древнегреческая поэзия остаются моими настольными книгами), моим главным увлечением тех лет была история Древнего Рима. Моим обжитым читательским домом стали Вергилий и Овидий (в меньшей степени Гораций), а также поэты-лирики I века до н.э. – I века н.э. и более поздние. Меня увлекала не только событийная история, но и «вертикальная» – почти в буквальном значении: ведь Древний Рим сейчас покоится под современным, конечно, кроме тех мест, которым удалось сохраниться в качестве исторических памятников. Со временем меня настолько увлекла сравнительная топография древнего и современного Рима, что, приехав в столицу Италии в первый раз уже в зрелом возрасте, я совершил «двойной визит»: бродя по улицам, довольно точно представлял, какая именно часть древнего города находится у меня под ногами, и это, конечно, придавало путешествию ни с чем не сравнимый объем. Со временем я разработал цикл лекций «Экскурсии по Древнему Риму» на английском языке, который читаю продвинутым группам. И, конечно, продвигаюсь в изучении итальянского, потому что моя любовь к Риму и к Италии – навсегда.











.jpg)














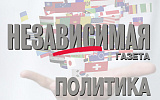
комментарии(0)