
|
|
Инна Иохвидович: «Рекламные ходы – не мое». Филипс Конинк. Швея. 1671. Эрмитаж |
Инна Григорьевна Иохвидович – писатель. Родилась в Харькове. Окончила Харьковский государственный педагогический институт им. Г.С. Сковороды и Литературный институт им. А.М. Горького. В СССР публиковалась в самиздате. Публикуется в русскоязычной периодике России, Украины, Австрии, Великобритании, Германии, США и др. Автор более 20 книг прозы, среди которых «Родной язык – русский» (2011), «Страсти и страхи женщины» (2011), «После СССР» (2014), «Женский портрет» (2017), а также одной аудиокниги «Сказки». Лауреат международной литературной премии «Вольный стрелок: Серебряная пуля» издательства Franc-Tireur USA (2010), а также газеты «Литературные известия» (2010) и журнала «Дети Ра» (2010). В 1998 году в связи с тяжелой болезнью дочери была вынуждена переехать на жительство в ФРГ. Живет в Штутгарте (Германия).
Русские и евреи. Живущие в одной стране и разделенные границей. Калейдоскоп судеб, характеров, чувств, ситуаций, событий. В рассказах Инны Иохвидович – живая жизнь, встающие впрямую или между строк нелегкие вопросы бытия. С Инной ИОХВИДОВИЧ, недавно отметившей юбилей, побеседовала Елена КОНСТАНТИНОВА.
– Инна Григорьевна, в прошлом году вы, кажется, собирались издать свою новую книгу – «Человек и животные», и даже знали, в каком именно издательстве. Но внезапно вдруг передумали.
– Передумала из-за пандемии ковида. Наступило какое-то угнетенное состояние, когда все показалось ненужным...
– Название этой пока не увидевшей свет книги говорит само за себя. И все-таки перелистаем пока ее несброшюрованные страницы...
– Я пишу короткую прозу. И те рассказы, что собрались под эгидой заголовка «Человек и его животные», никогда не задумывались книгой. Некоторые из них – «Прохор, Баська и Лорд», «Спи, Маша, спи», «Вкратце о любви» – публиковались в периодике.
– До интервью вы не без грусти сказали, что последняя по времени книга рассказов «Позднее прозрение» (2019) прошла почти незамеченной – в отличие от предыдущей, «Женский портрет» (2017), на которую был развернутый отклик в журнале «Волга». «Она же есть в библиотеках то ли девяти, то ли десяти американских университетов, что меня радует! Поживут книжки, не сразу «помрут»!» Выходит, обычные заверения писателей в том, что они пишут якобы для себя, – либо самообман, либо обман?
– Говоря о «жизни книг» в библиотеках американских университетов, я имела в виду то, что там книги списываются в утиль, может быть, вовсе не так, как в наших. Впрочем, у меня представления о списывании книг еще советские, нужно учитывать тот момент, что нынче их «жизнь» продлевается на цифровых носителях... Сам автор никакого отношения к этому не имеет. А то, что некоторые писатели утверждают, что пишут для себя, мне кажется просто «игрой на публику».
– Прорабатываете ли вы какие-то рекламные ходы в продвижении своих книг?
– Рекламные ходы – не мое. Говоря словами Осипа Мандельштама: «Я человек эпохи Москвошвея...»
– Вы широко печатаетесь в русскоязычных сетевых и бумажных изданиях по всему миру. Исключение – российские толстые журналы...
– Когда-то в журнал «Знамя», который тогда еще возглавлял покойный Григорий Бакланов, я послала один рассказ. Его встретили с одобрением. Но позже выяснилось, что мой земляк, тоже из Харькова, отправил туда свой рассказ, тематически близкий моему. За земляка кто-то похлопотал в журнале. И его рассказ опубликовали... Давно это было, и земляк тот давно уже умер...
Потом я рискнула предложить рассказ в другой «толстяк» – «Дружбу народов». Думается мне, что они даже не читали присланные рукописи... В 1980-е я рассылала свои рассказы во все журналы подряд. Их очень хвалили и... не печатали. В итоге один мой рассказ вышел в киевской русскоязычной литературной «Радуге» один с переводом на украинский язык – в украиноязычном журнале «Березiль», который издавался в Харькове. Но в то время у меня серьезно заболела дочь. Начались долгие годы борьбы за ее жизнь. Мне было ни до чего. Врачи даже диагноз не могли поставить. Приехать из Украины на консультацию в московскую клинику решительно не представлялось никакой возможности. Легче было эмигрировать. Так мы оказались в ФРГ. А здесь хворь дочери прекратилась – оказалось, экология делала ее лежачей больной...
– Скромность мешает писателю?
– Конечно, мешает, но ведь себя не переделаешь. Зато подчас веселюсь, когда читаю у некоторых самовосхваления...
– Чем вам памятна черно-белая фотография в интернет-журнале «Семь искусств», запечатлевшая вас во дворе, судя по одежде – весной или осенью, на фоне дерева, ствол которого охвачен гладким шнуром, словно удавкой?
– Эта фотография начала 1980-х годов сделана в Харькове ныне всемирно известным фотохудожником Борисом Михайловым, другом не только моим, но в первую очередь моего покойного брата, покончившего с собой путем повешения в 1966 году. Как раз в кинотеатрах шел фильм «Земляничная поляна» Ингмара Бергмана… Когда Борис снимал меня, то ни я, ни он не заметили той веревки. Но получилось что-то и вправду символическое... Честное слово, мы не думали об этом.
– С какого возраста вы помните себя?
– С раннего. Даже не могу сказать определенно. Но с конца первого года жизни – точно...
– На ком держался дом?
– В итоге на мне и держался. В жизни пришлось исполнить три одинаковые «роли» по отношению к моим беспомощным больным близким – маме, папе, дочери... Каждая из них длилась годами, а подчас десятилетиями...
– Опишите, пожалуйста, какой-нибудь день из детства.
– Мы жили в семиэтажном доме на пятом этаже. И каждый день в раннем детстве приходилось пользоваться лифтом, которого я боялась, как сказочного ревущего существа! Мой подъем на свой этаж был слышен всему подъезду! Но однажды этот мой рев был особо громким! Меня встретили осуждающие взгляды соседей из других квартир. Мне стало стыдно, и потом при подъеме в лифте я стала лишь тихо плакать.
– Если охватить вашу судьбу одним взглядом, что в ней будто «запрограммировано»?
– Мама страдала тяжелым сахарным диабетом. Она ослепла, ничего не видела и не слышала, не могла ходить... Не думала, что меня постигнет та же участь! Диабетик, с отвратным зрением, один глаз практически не видит. Я теперь 80-процентный инвалид немецкий.
–То есть?
– В ФРГ система установления инвалидности похожа на советскую и российскую, но более жесткая. Здесь в зависимости от степени расстройства функций организма она подразделяется не на группы, а на проценты. Мои 80 процентов приравниваются к первой группе инвалидности по российским меркам. В общем, хожу и надеюсь на лучший конец.
– Рассказы вы стали писать еще в СССР. Почему ограничили тогда себя самиздатом?
– Знала, что мое – «мрачное», публиковать не будут!
– И даже не делали никаких попыток?
– Нет, один раз попробовала и поняла, что это бессмысленно... В 1980-х я отправляла, как уже говорила, много рассказов в толстые журналы, и что?.. Сейчас в Фейсбуке многие бывшие литконсультанты, что состояли тогда со мной в переписке, предлагают френдиться. Они все же свои карьерки сделали... Но есть такая немецкая пословица: «Jedem das Seine», в переводе: «Каждому свое»...
– Столкнулись ли вы в эмиграции с проблемой самоидентификации?
– Мне было не до самоидентификации. Обступили хвори! Несколько операций, удалили раковую опухоль, слава богу, что не было метастазов, потому после операции прошла только лучевую терапию. Правда, лучевой ожог ухитрилась заработать. У меня об этом рассказ «Скорбный лист, или История моей болезни». Представьте, до Октябрьской революции «история болезни» называлась «скорбным листом»!
– От чего почти вкоренившегося в сознание за годы советско-украинской жизни отвыкали тяжелее всего?
– От напряжения и ожидания очередного обострения болезни дочери, что случались в 1990-е ежегодно. Когда твой ребенок полгода лежит в постели, а врачи только беспомощно разводят руками, уедешь не только в эмиграцию, а к черту на кулички...
– Вы упорно не желаете расставаться с Харьковом, перенося периодически туда место действия своих рассказов, как, например, в относительно недавних, 2019–2020 годах, – «После спектакля», «В канун Рождества», «Пандемия – красивое слово», «А прав ли был Михаил Булгаков?»...
– Я люблю мой город. А то, что переношу действие туда... А куда мне еще переносить?!
– Как повлияла на ваше творчество эмиграция?
– Много публицистики написала, надо было хоть как-то, пусть и не напечатать, но выговориться... Тяжело...
– С чем связано ваше писательское постоянство – короткие и очень короткие рассказы?
– Причина одна – сил нет! И здоровье не позволяет. И привычка...
– Что надо, чтобы реальная история, случившаяся с вами, облекла художественные «очертания»?
– Желание выговориться... Или когда хочется кому-то помочь своим опытом...
– Выйдя на пенсию, учительница Алла, героиня рассказа «Позднее прозрение», который и дал название вышеупомянутой книге, начинает «записывать собственные мысли и суждения о прожитом и пережитом», «чтоб наконец-то понять, впервые в жизни, саму себя! И вот тут-то ей стали открываться «бездны»! <…> Оказалось, она неправильно прожила собственную молодость» – лишенная «здорового эгоизма» и «собственной радости», была поглощена «жизнью других». Но однажды после своих раздумий воскликнула: «На что же жаловаться человеку живущему?» Согласитесь – неожиданный поворот?
– Я с самого детства неправильно жила! Считала, что не я, а другие люди – умные, знающие и что я по сравнению с ними – пигмей! Почти всю жизнь так считала! Готовилась к коммунизму к 1980 году, как обещал Хрущев! Природного эгоизма почти не было. Что, как оказалось, плохо... Я привыкла жить для других, это же дурь какая-то в голове была... Вот так и прожила, а мне все мои друзья удивлялись... Впрочем, на самом деле они и не друзья мне... События на Украине «развели» меня с так называемыми друзьями! Бог им судья...
– Без какой-либо дидактики, прямых поучений ваши рассказы – рассказы о живой жизни – наводят на серьезные размышления: об одиночестве, ставшем для многих естественным состоянием, о безразличии к самому себе, автономности от окружающих, выпадении из социума...
– В молодости очень мне импонировал Пьер Паоло Пазолини. И я хотела жить свободной... Его убил недоделок и еще прокатил по нему на машине, уже по трупу... Этот трагический случай остался навсегда со мной и повлиял на мое существование...
– Как правило, вы не помогаете своим героям выйти из тупика, оставляя их один на один со своими личными проблемами. И вообще, «свет в конце тоннеля» возникает отнюдь не всегда в финале ваших рассказов. «Если кому-то моя проза кажется нестерпимо болючей, – замечаете вы, предупреждая возможные упреки, – то я вслед за Чеховым могу повторить: «Литература не лекарство, она сама боль». Кто лекарь?
– Помочь человеку не может никто, кроме него самого. Или – Господь...
– Увязнуть в самой себе, впасть в хандру – вам самой что-то подобное знакомо?
– Такое случается время от времени... Людям верующим легче, они будут молиться об исцелении...
– Лет десять назад вы говорили о том, что «героев нынешней прозы волнуют вопросы не бытия, а быта, какой-то жизненной стабильности, устроенности, благоустроенности, мало кого волнует «звездное небо и нравственный закон внутри нас»…» С тех пор мало что изменилось, не так ли? Отчего произошел такой «перекос»?
– Если раньше советских людей волновали, скажем так, «глобальные вопросы», то нынче все как бы крутится вокруг быта, благоустроенности и так далее – тех же проблем, связанных с комфортным существованием, что и на Западе. Это хотя и стабильное, но, на мой взгляд, тягучее обывательское существование... Но это, подчеркну, мое личное восприятие, я его никому не навязываю. Просто жизнь, без больших целей и романтики. Скучная – вспомнила одноименный рассказ Антона Павловича – история...
– Вам близки строки харьковского поэта Бориса Чичибабина: «Я устал судить сплеча,/ мерить временным безмерность»?
– Близки, но ситуации бывают разными...
– Чичибабин умер за четыре года до вашего отъезда в Германию. Вы пересекались с ним?
– Пересекалась, и не раз. Знала и его, и его жену Лилю – а сейчас мы с ней френдимся в Фейсбуке. В Инете у меня есть воспоминания о Чичибибине. Очень ценю его поэзию, многое знаю наизусть. Излет хрущевской «оттепели», весна 1964 года. Тесная харьковская районная библиотека. Здесь я впервые услышала, как этот поэт, так похожий то ли на дьячка, то ли на священника, читал свои стихи. Читал завораживающе, так что они задевали и еще сильнее заставляли трепетать сердце, отзывавшееся биением почти на каждое слово... Лично познакомилась с ним в 1978-м в доме у моей подруги Инны Сухоруковой. По душе были не только его стихи, но и он сам – манерой говорить, слушать, даже перебивать… Нравилась его харьковская привычка называть людей не ласково, но и не грубо, а с уменьшительно-пренебрежительными суффиксами – и в жизни, и в стихах: Борька, Лешка, Юрка… Вся «харьковская культура» антипафосна!.. Совершенно случайно узнала, что Чичибабин – литературный псевдоним, взятая им девичья фамилия матери.
В последний раз увидела Чичибабина на площади Поэзии. Он по-хозяйски обходил вокруг клумбы, на которой стоял бюст Пушкину, поставленный благодарными харьковчанами в 1911 году. Я сидела на скамейке и курила, Борис Алексеевич меня не замечал, как, впрочем, и никого вокруг, – он был рядом с Пушкиным, пусть и в металле отлитом. Обойдя, остался, кажется, доволен. И даже позвякивавшая в хозяйственной сумке стеклотара в руках как бы подтверждала своим звяканьем его удовлетворение. Потом направился в подвальчик, где принимали стеклянную посуду. И только тогда до меня дошло, что он приехал сдавать посуду сюда издалека, из района «Новых Домов», где проживал, лишь бы увидеть любимый профиль, глянуть в анфас и полуфас того, кто жил в его сердце…
– Не станут ли ваши воспоминания о Чичибиине главой будущих мемуаров о тех, кто вам до сих пор дорог?
– Для того чтобы реализовывать такие проекты, необходимо держать себя в руках, безжалостно относиться к себе, исключить все расслабляющее и, что главное, необходимо, чтобы твоя семья тебя поддерживала, помогая. Либо – полностью от нее, семьи, отказаться... Я не оказалась к этому готовой.
– Кому вы бросили вызов книгой «Русская еврейка» (2015)?
– Я и «вызов» несовместны...
– Холокост, Катастрофа европейского еврейства, антисемитизм, «пятая графа» – темы, связанные с этими понятия, для вас по-прежнему остры. Подтверждение тому рассказы «Девочка и дворник», «Молчащий Свидетель», «Перед судом», «Метис», «Камень преткновения», «Знаменитая» фамилия», «Избегая солнечного света»... Вы что-то хотите до конца прояснить для себя? Ваша цель?
– Цели нет, есть только боль... Когда еще позволяло здоровье, у меня была задумка написать серию рассказов о нацистах, избежавших наказания. Нынче мне это сложно реализовывать. Потому что просто не хватает физических сил воспроизвести то, что хочется донести до людей, чтобы они знали, как было, как бывает... Сейчас я что-то вроде потухшего вулкана... Перед 9 Мая или в другие памятные дни ставлю один из ранее написанных на эту тему рассказов, которые размещены в «Журнальном зале», на своей странице в Фейсбуке...
– Возмездие, Божий гнев – на самом деле не выдумка?
– Надеюсь, что не выдумка... Или мне так хочется верить... Писать о тех нелюдях я стала еще и оттого, что хотела сама знать, как работает к а р м а! И убеждалась подчас, что понятие ВОЗМЕЗДИЯ существует!
– Как прозаик, рассказы которого переведены и на немецкий язык, что скажете об интеграции русской литературы в культурное пространство Европы?
– Не так уж много моего и переведено... Об интеграции русской литературы в культурное пространство Европы?! Есть несколько связанных с этим ежегодных мероприятий. Прежде всего Франкфуртская книжная ярмарка и аналогичная ярмарка в Восточной Германии. Там всегда присутствуют представители России, издатели и писатели. Вот живущий в России замечательный писатель Юрий Буйда очень популярен в Европе! Я много лет читаю его книги, стараюсь не пропустить новые. Называю Юрия Буйду писателем номер РАЗ! Он просто феноменальный писатель! Гордость русской литературы!
– И все же русский язык для вас по-прежнему родной, и вы ведь, как ваш герой – отец Михаэля из рассказа «Молчащий Свидетель», уверены в том, что «язык больше чем кровь»?
– Что может быть лучше русской речи?! «Я – изысканность русской медлительной речи...» – писал поэт.






















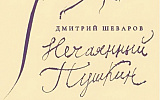



комментарии(0)