 Если бы Ромео и Джульетта не вели себя так глупо, Шекспиру было бы не о чем писать. Карл Брюллов. Ромео и Джульетта. 1830-е. Днепропетровский художественный музей, Украина
Если бы Ромео и Джульетта не вели себя так глупо, Шекспиру было бы не о чем писать. Карл Брюллов. Ромео и Джульетта. 1830-е. Днепропетровский художественный музей, Украина
Андрей Филимонов был положительно отмечен московскими критиками еще в 1990-е годы – за рассказ «На дороге», опубликованный Дмитрием Кузьминым в альманахе «Вавилон». А теперь, в конце 2010-х, он уверенно заявляет о себе на российской литературной сцене как автор со сложившейся динамичной и при этом философски-игровой манерой письма. С Андреем ФИЛИМОНОВЫМ побеседовала Елена СЕМЕНОВА.
– Андрей Викторович, расскажите про ваши первые писательские опыты.
– Моим первым литературным опытом было завещание, сочиненное приблизительно в пятилетнем возрасте. В письменной форме я сообщил своим родителям, что желаю быть похороненным во дворе, у песочницы. Хорошо, хотя бы не за плинтусом. Довольно скоро, изучив собрания сочинений классиков в родительской библиотеке, я пришел к выводу, что больше всего мне нравится цвет переплетов у тридцатитомника Чехова (бирюзовый) и десятитомника Пушкина (рубиновый). Книги стояли на полках тесно, как солдаты. Их авторы казались мне командирами боевых подразделений. Ассоциацию усиливала цитата из В.И. Ленина: «Книга – огромная сила!» в витрине каждого второго книжного магазина. Опять же в школе мы учили Маяковского, который хотел, чтоб к штыку приравняли перо. В общем, было очевидно, что литература – это занятие для настоящих мужчин. В 14 лет я начал слушать русский рок, в основном продукцию Ленинградского рок-клуба. Вскоре меня и моего одноклассника осенило, что мы и сами можем «сделать группу». Начались мечты о бас-гитаре «Урал» за 250 рублей. Правда, играть мы не умели, но нам казалось (как я сейчас понимаю, справедливо), что это не главное. Для приобретения звукоизвлекающей техники нужны были деньги. Почему-то мы решили заработать их литературным трудом, написав конъюнктурный роман о польской «Солидарности». Мы были такие вполне циничные советские подростки (шел 1984 год), стебавшиеся над вечно мрущими генсеками, но при этом хотели наваять правильное соцреалистическое произведение, а на вырученные гонорары петь песни a la Гребенщиков. Вот такой компот в голове. Ну а первый опыт художественной прозы, за которую не очень стыдно, это документальная повесть «Из жизни ёлупней», написанная в соавторстве с ныне покойным поэтом Максом Батуриным в конце 1980-х годов.
– Вы не раз рассказывали предысторию романа «Рецепты сотворения мира», но повторите здесь, пожалуйста, как появилась идея написания, что послужило стимулом?
– Первоначально книга называлась «Новогодние открытки» и действительно была составлена из поздравительных открыток за несколько десятилетий, хранившихся в чулане дедовской квартиры. Идея относится к 2015 году. Тогда Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексиевич, и все вокруг, и я в том числе, помешались на нон-фикшн. В окончательном варианте рецептов, кажется, сохранился текст одной открытки. Помните сказку «Каша из топора»? Вот и у меня так получилось.
– Можно ли сказать, что роман – это попытка объяснить для себя какие-то вещи, связанные с памятью, с отношением к предкам? Изменилось ли ваше отношение к бабушке и дедушке, когда они стали персонажами книги?
– Безусловно, я узнал их лучше. Многое прояснилось между строк военных писем, которыми они обменивались с 1939 по 1946 год. Все это время они виделись урывками и каждый раз понимали, что встреча может оказаться последней. Уверен, что это была самая яркая часть их жизни – бесконечные разлуки и письма. Что касается памяти, то я как раз пытался показать в «Рецептах...» ее работу. Ведь мы вспоминаем события не сюжетно, а, наоборот, довольно хаотично, и, только начиная рассказывать, выстраиваем линию повествования. Но мне было неинтересно писать еще одну семейную хронику. Хотелось сделать героем книги саму память и заставить ее говорить. Жаль, что Набоков уже использовал это название. Когда «Рецепты...» были изданы Редакцией Елены Шубиной, мне было очень странно получать упреки некоторых критиков в «бессвязности». Именно этого я и добивался. А «Поэтику» Аристотеля читал еще в университете, и – спасибо – знаю, как правильно, по его мнению, надо выстраивать трагедию.
– Стиль «Рецептов…» отличен от стиля романа «Головастик и святые». Во втором случае это манера веселого, как бы незатейливого стилизованного сказа. Насколько такой стиль для вас органичен? На что вы ориентировались при его выборе?
– «Головастика...» я долго мучил, пока он не заговорил на своем языке. Точнее, пока не зазвучал хор голосов, из которого состоит роман. Его герои – люди настолько свободные, что иногда страшно бывает находиться рядом с ними. Разумеется, их речь тоже должна быть абсолютно свободной. Поэтому я безжалостно выбрасывал все лишнее, все, что отдает тухлятиной хорошего вкуса. Хотя, когда главный герой на деревенском сходе вдруг заговорил словами Сократа из его речи перед афинским судом, для меня это стало большой неожиданностью.
– В «Головастике...» мешаются реальные и фэнтезийные вещи. Меня, в частности, поразил образ кровати-самореза и то, что жительницы Бездорожной залезали на деревья, чтобы говорить по мобильному, а иногда падали и калечились. Могли бы вы сказать, что взято из реальной жизни, а что выдумано? Какой литературой вы пользовались в качестве источников?
– Основным источником, вы не поверите, была сама жизнь. Дело в том, что я лично знаком с Головастиком и другими действующими лицами. С некоторыми вскользь. Например, Кочерыжку я случайно встретил в поезде: она сидела и рассказывала попутчице о нелегкой судьбе девочки из военной семьи. Папины командировки в горячие точки и тому подобное. Женщины с мобильниками, сидящие на деревьях, – это проза деревенской жизни в тех местах, куда сотовая связь достает еле-еле. Панцирные кровати действительно ездили по узкоколейкам Западной Сибири в лихие 90-е – отличное средство передвижения. Другого в тех местах все равно не было. Литературными источниками «Головастика и святых» были, как я уже говорил, «Апология Сократа», «В ожидании Годо», скандинавские Эдды – Младшая и Старшая, некоторые стихи Адама Мицкевича и совсем чуть-чуть Михаил Булгаков. Пожалуй, все.
– Ваша проза обладает особым драйвовым ритмом, в котором, как и в стихах, важна внезапная, иногда шокирующая расстановка слов и мыслей. Мне, во всяком случае, один кусочек показался откровенно стихами. Ощущаете ли вы свою прозу как поэзию?
– Мой друг поэт Сергей Ташевский однажды сказал, что «лучшее в прозе – это стихи». Если понимать под стихами строки, безальтернативно приходящие на ум неизвестно откуда, то я полностью согласен. В любом случае я совершенно не способен писать «настоящую» прозу, все эти «маленькие жизни» на тысячу страниц. Ну просто не занимаюсь производством кирпичей. У меня другая задача. Если можно сократить абзац до одной фразы, то я обязательно это сделаю.
– В случае с «Головастиком…» мне кажется, что один из двигателей вашего творчества – обнаружение очаровательного абсурда в реальной жизни. Это так?
– Мне кажется, что самое очаровательное и фундаментальное свойство человека – глупость. Она же движет механизмами фабулы. Если бы Ромео и Джульета не вели себя так глупо, то Шекспиру было бы не о чем писать. А Дон Кихот? А «Идиот» – лучший, на мой взгляд, роман у Достоевского? Я сам чувствую, что пишу сплошные глупости, но вижу в этом следование человеческой природе.
– Литература – дело порой мистическое. Вот, я читала «Рецепты…», а одновременно занималась стихами Николая Данелии для антологии. В тот же день дочитываю «Рецепты…» и – я думала, что у меня галлюцинации – обнаруживаю там стихи Данелии. Выясняется, что ваша бабушка общалась с его матерью – актрисой Любовью Соколовой. Предполагаю, что когда работаешь на таком сложном поле, как роман, мистика и совпадения зашкаливают. Случалось у вас такое?
– Да, бабушка дружила с семьей Данелия, и Любовь Соколова приезжала к ней в гости в Томск. Они когда-то вместе учились в пединституте города Иваново, еще до войны. Оттуда же, из Иванова, происходит и другой герой «Рецептов...» – поэт Миша, впоследствии генерал советской литературы. Мне казалось, что его довольно легко вычислить, но, к моему удивлению, Галина Юзефович, например, этот «квест» не прошла и написала в своей рецензии, что речь идет о «слегка загримированном Константине Симонове». Ошибочка вышла. Что касается мистических совпадений, я бы их назвал рифмами жизни. Они постоянно случаются. Например, недавно я вдруг получил предложение сотрудничать с испаноязычным телеканалом из Флориды, а буквально через пару дней издательство Hipermedia, расположенное в Майами, сообщило, что желает перевести «Рецепты...» на испанский. До этого Флорида никакой роли в моей жизни не играла, а тут как началось…
– Чуть уйдем в сторону от прозы. Я знаю, что вы в Томске устраивали с друзьями поэтический фестиваль «ПлясНигде». Расскажите, пожалуйста, про него.
– «ПлясНигде» я вспоминаю с большой теплотой, хотя придумал этот фестиваль промозглым февральским днем, гуляя по Латинскому кварталу. Остановился выпить чего-нибудь согревающего в кафе на маленькой круглой площади и вдруг увидел табличку с названием: «Пляс де Лапляс». Понятно, что был такой знаменитый астроном, и в честь него… Но меня совершенно заворожили ритм и звучание этого топонима. Я стал его повторять, и неожиданно что-то щелкнуло в голове и придумался передвижной поэтический фестиваль «ПлясНигде». То есть совсем без площадок для выступлений, исключительно в виде литературной прогулки поэтов, к которым может присоединиться любой желающий. Вернувшись в Томск, я написал друзьям из поэтического сообщества «Кастоправы» – как вам такая идея? Они радостно закивали головами. Я зашел к местному «министру культуры», говорю: есть идея, если бы к ней добавить финансирование… Он ответил: есть немного денег. Все устроилось практически само собой наилучшим образом. Прилетели друзья, фестиваль открылся в литейном цехе завода «Сибмотор», потом читали стихи на бульварах и в трамваях. А закончилось все выстрелом из старинной пушки, стоящей на горе в центре города. Зарядили пушку черновиками и бабахнули. Получилось красиво – видео сохранилось на сайте www. placenigde.ru. Потом «ПлясНигде» ездил в Париж, а его томские участники испытали на себе мистическую силу идеи отсутствия места. Тот «министр культуры» попросил политического убежища в Эстонии, директор завода уехал в Люксембург, а я пребываю в пространстве от Сибири до Парижа, как герой Курта Воннегута, который попал в «хроно-синкластическую инфандибулу».
– Вы, кстати, помимо прозы продолжаете писать стихи. И они у вас интересные – тоже такие философски абсурдные, иносказательные. Можете процитировать одно из последних стихотворений?
– Спасибо на добром слове! Цитирую из относительно недавнего:
Пишет робот письмо в газету
честный рабочий бот
«Если надо Америку эту
мы как Гитлера в сорок пятом
отхеракаем в рот-компот».
И поддерживает работягу
простая нейронная сеть
«Наши деды давали присягу
ни Рейхстагу, ни Бундестагу
не дадим наш Гулаг поиметь»
В спор вступает высокомерный
либеральный один алгоритм
«Вы прислуга рабов галерных
дети клоунов подковерных
бесполезный народ-паразит».
И так далее и по кругу
страшные как враги
гадят боты в комменты друг другу
Дай мне милая теплую руку
свой процессор побереги...


























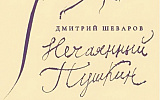

комментарии(0)