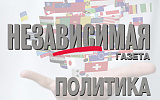|
| Увлекательные раскопки, литературная археология. Джузеппе Арчимбольдо. Библиотекарь. 1566. Замок Скоклостер, Уппланд, Швеция |
Недавно вышла мемуарная книга Натальи Ивановой «Такова литературная жизнь». О замысле книги, ее сюжете, о возможности утраты литературной жизни с Натальей ИВАНОВОЙ побеседовал Борис КУТЕНКОВ.
– Наталья Борисовна, как вы признавались, мотивацией для появления вашей книги был «Фейсбучный роман» Сергея Чупринина, после которого он посоветовал вам писать мемуары. В чем вы видите принципиальные отличия ваших мемуаров от чупрининских? Является ли общим для обеих книг сюжет утраченного литературоцентризма?
– Как известно, процитирую Леонида Зорина, «книги инспирируют». Тем более опыт спарринг-партнера.
Моя книга – не мемуары. Это «случаи» из литературной (и нелитературной) жизни, вернее, мои впечатления о них – ничем не стесненное движение, предчувствие мысли, новеллы, которые соединяются прихотливо, чаще всего вольно, иногда ассоциативно, зафиксированное душевное состояние – и уж никак не «фейсбучно», не по логике контактов с «френдами» и отзывов на «коммент» или «лайк». Здесь нет хронологической последовательности, а если есть, то она тоже не обязательна. И логические продолжения-совпадения, по принципу смысловой рифмы, случайны.
Принцип – колода карт, ее можно как угодно тасовать, но она едина. Принцип – сериал, но серии можно переставлять практически в любом порядке – и всякий раз между ними могут неожиданно для меня самой возникнуть новые связи. Это фрагменты, мозаика, вспышки ситуаций, эмоций и отношений. Формат текста – не Facebook, в котором я присутствую постоянно, но пишу иначе. Краткость отдельных главок, ирония и самоирония, псевдоностальгия, новеллизация, внутренняя завершенность каждого сюжета – все это было опробовано мною в книге 2003 года «Ностальящее» (там эта часть называется «И так далее», кое-что оттуда я перенесла в новую книгу).
Конечно, этот жанр из наследия ВРЛ, великой русской литературы, в которой он присутствует постоянно, – записки, от «Table talk» и «Окаянных дней» до «Опавших листьев» и «Голоса из хора», намеренно вызываю очень разные тени. Еще хочу вспомнить «Сорок семь ночей» и «Гиппоцентавр. Опыты чтения и письма» Гедройца (Самуил Лурье). И все это жанровое наследие, повторяю, из совершенно разных литературных углов отечественной литературной традиции, и не будем делать самодовольный вид, что мы изобрели этот жанр. Facebook – всего лишь носитель.
Что касается плача по утрате литературоцентризма – это не мой сюжет, мой сюжет – сопротивление утратам.
– А вообще, какое место ныне занимают воспоминания, мемуары, дневники на полке современной словесности?
– Воспоминания – хлеб словесности. Или сама словесность.
Все зависит от выделки.
– Книга, в моем представлении, делится на три довольно различные части. Дневниковые воспоминания о советской литературной жизни, затем подробности позднесоветского времени, выдержанные в стилистике скорее «обзоров за год», а третья часть заметно отличается от двух предыдущих – книжные рецензии из рубрики «Гутенберг», ведомой вами в «Знамени»… Не боитесь ощущения «композиционного разброса»?
– В книге присутствует не только подсоветский, но в большом объеме постсоветский литературный мир, литературная жизнь именно что в 90-е. Как их не называют, для меня это были годы стремительной, захватывающей смены литературных пейзажей и «режимов», в которых я принимала самое непосредственное участие. Первая часть – это скорее всего литературное прошлое, непрошедшее настоящее, вторая – 90-е. Последняя – литературные признаки и знаки нового тысячелетия в моем отражении.
– И все-таки как вы оцениваете композиционную цельность книги? Что скрепляет эти части в единый метатекст (или метажанр, пользуясь вашим определением из «Десяти тезисов о журнальном деле»)?
– В единый метатекст части объединяет моя литературная личность. Я сценарист, режиссер и монтажер этого метатекста, говоря киноязыком. И в главной роли тоже я, а не другие писатели, как было у меня во всех других книгах, начиная с «Прозы Юрия Трифонова», «Смеха против страха», книгах о Пастернаке и вплоть до «Феникса, который поет перед солнцем», где герои и персонажи – Симонов, Фадеев, Катаев, Зощенко, Булгаков, Олеша, Замятин… только не я.
– Читая ваши воспоминания в духе «годовых обзоров» с подробной детализацией, я не мог справиться с ощущением, что вами переделывались статьи, написанные в тот период… Это не так? А вообще вы реконструировали литературную жизнь больше по личным воспоминаниям? Часто ли обращались к архивному контексту?
– «Взгляд сверху» на 90-е я начала складывать через дистанцию в десятилетие. Мне помогали подшивки литературных журналов – ведь никакого журнального зала еще не было. Это были увлекательные раскопки, «ближняя» литературная археология. Давнее всегда помнится лучше, а вблизи (скажем, удалено только лет на десять) быстро теряются детали и выцветают подробности.
– Редактор толстого журнала скован требованиями этики, многие участники ваших воспоминаний живы… О многом ли умолчали?
– Мемуары – впереди, если будем живы. Да, кстати, и мой «Гутенберг» – это не книжные рецензии, а те же впечатления, только от книг как «случаев» из современной литературной жизни. Книги – такие же предметы интерьера, внутреннего и внешнего, где обитает моя литературная личность. И реальная тоже. Несколько лет тому назад у меня сгорела дача – вместе с библиотекой в несколько тысяч томов. Она горела солнечным летним днем, на моих глазах – я стояла за забором, пожарники к дому не пускали. Горела факелом. И я неожиданно для такой ситуации подумала: это кремация, книги уходят к небу, и после смерти «там» меня будет ждать моя библиотека.
– Сергей Чупринин писал свои новеллы в сети Facebook, ориентируясь на читательские «комменты» и, по сути, придумав новый жанр, возникающий в диалоге с аудиторией… Как писали свои воспоминания вы? Много было заготовок или больше спонтанности?
– Писала спонтанно. И располагала спонтанно. Было искушение потом выстроить – и редактор предлагала еще в журнальной публикации, но я удержалась. Чем случайней… У меня не было ориентации на комменты, я им не очень-то доверяю и редко вступаю в диалог на своей страничке в Facebook… Скажу так: будете смеяться, но Facebook не место для дискуссий. Я писала свою «некритику» (не воспоминания) на краешке письменного стола с «лит-крит-работами». Это была свобода, счастье свободы, никаких ограничений – ряд соображений, который в любой момент могу развернуть.
– Молодым не слишком интересны позднесоветские реалии, представители же одного с вами поколения способны «восстановить контекст» без вас и уже не так нуждаются в подробностях… Я не прав? Какой аудитории в первую очередь адресована ваша книга?
– Я веду спецкурс и спецсеминар по критике на филфаке МГУ и вижу, насколько студентам и магистрантам интересен как раз контекст 60–90-х, в котором «их не стояло», так что позвольте на это утверждение решительно возразить. Аудиторию книга выбирает сама, мое дело – записать, дать свою версию литературной реальности в контексте непрошедшего. Рядом с моей критикой.
– Ваши рецензии в рубрике «Гутенберг» занимают промежуточное место между короткими рецензиями, ориентированными «на продажу», и аналитическими статьями… А насколько развит сейчас такой жанр «читательских впечатлений», написанных профессионалом и аналитически обоснованных?
– Мои «нерецензии» занимают место, на которое я их поставила. Ваше определение роднит их с идеями Лидии Яковлевны Гинзбург о «промежуточных жанрах» и их роли в словесности. Вслед за незабвенным Гедройцем – Самуилом Лурье я не ориентирую читателя на продажи книг, о которых пишу. Чаще всего это не мейнстримная проза, сборники стихов, non-fiction; мое внимание обращено к тому, «как сделана шинель», то есть с помощью каких приемов, в том числе издательских, придумана и «сшита» та или иная книга. Например, известный литератор отбирает стихи и прозу классика, скажем, Сергей Гандлевский выбирает «своего» Ходасевича. Мне нравится отметить книги из провинции, не попадающие или редко попадающие под прожектор, – например, из Чистополя, из Воронежа. Меня волнует: есть ли жизнь за литературным МКАДом, то бишь за пределами (загонами) литературных премий. А она есть, что, надеюсь, я и доказываю.
Жанры, в которых я работаю и как критик, и как «некритик» – не коммерческие по определению. Ну что же делать, если так вышло – не могу исправиться, смиренно принимаю обстоятельства литературного существования. Продолжаю аристократическую линию нашей словесности. Не купеческую. И тем более не приказчицкую. Товар перед покупателем по прилавку не раскидываю. Я никого не осуждаю, упаси бог, я ведь и покупатель тоже.
Взгляд на книгу – это моя интерпретация. И то, что увиделось за книгой. Главное – свобода высказывания, моего самовыражения на полях той ли, иной книги, фильма, спектакля. Ролевой моделью для меня остается «Мой временник» Бориса Эйхенбаума – полижанровый эксперимент, сочинение, объединенное личностью автора.
– Чего больше было при взгляде на уже написанную книгу – сожаления об утраченном, фаталистического смирения перед новым, попытки сравнения? Выдерживает ли ее, эту попытку, «новая» литературная жизнь?
– Ни сожаления, ни смирения, ни сравнения: литературная жизнь развивается, это организм; иногда, как всякий организм, болеет; жаль будет, если она исчезнет.
– Вы действительно думаете, что такое может произойти?..
– Но она не исчезнет. Потому что гибка, как молодая Ахматова, способна сделать мостик, прирастает постоянно новыми авторами и текстами, принимает разные формы, меняется. Но надо эту жизнь постоянно поддерживать. Чем я в меру сил и занимаюсь. В доме должно быть чисто, тепло и пахнуть хорошим кофе.