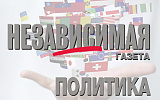Андрей Битов
Андрей Битов
Андрей Георгиевич Битов (р. 1937) – прозаик. Родился в Ленинграде. Автор книг "Уроки Армении" (1978), "Аптекарский остров" (1968), "Семь путешествий" (1976), "Грузинский альбом" (1985), "Пушкинский дом" (1989), "Оглашенные" (1995), "Империя в четырех измерениях" (1996), "Новый Гулливер", "Похороны Доктора" (1999), "Преподаватель симметрии" (2008) и др. Лауреат Пушкинской премии фонда А. Тепфера (Германия) (1989), премии за лучшую иностранную книгу года (Франция), за роман "Пушкинский дом", премии Андрея Белого (Санкт-Петербург) (1990), Государственной премии РФ за роман "Улетающий Монахов" (1992), Государственной премии РФ за роман "Оглашенные" (1997), Царскосельской художественной премии (1999), премии Правительства РФ в области культуры за собрание прозы "Империя в четырех измерениях" (2014), Платоновской премии (2015).
Встретившись с Андреем БИТОВЫМ для беседы по случаю 80-летнего юбилея писателя, Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН подарила ему «Уроки Армении» издания 1978 года. «О, это, можно сказать, раритетное издание, – заметил писатель, – единственное отдельное издание «Уроков». Так что разговор о жизни и творчестве прозаика логично начался с Армении.
– Андрей Георгиевич, расскажите, как складывались в жизни отношения с друзьями? Как все начиналось?
– В августе я похоронил самого первого армянина в своей жизни. Я и забыл, что он у меня был первым. Я всегда думал, что первым был Грант Матевосян. Но, оказывается, у меня был друг с первого класса, с 44-го года, в Ленинграде. Звали его Валерий Григорянц. Он, можно сказать, был очень русским, армянского не знал… Успел меня спасти. У меня были проблемы с сердцем. В 2014 году, летом, врачи поразъехались, а мне стало хуже. Я знал, что Валера «сердечник». Позвонил ему, он мне посоветовал врача, и наконец-то мне поставили диагноз – гипертрофированная мышца миокарды. Сделали легкую операцию. С Валерой мы не виделись много лет. Оказывается, его многие знали и уважали в Питере, он был компьютерщиком, из тех, кто работает на стыке с наукой. Встретились как-то случайно. Уставился на меня огромными армянскими глазищами, а я про себя думаю, мол, вот, армяне меня узнают. А он по голосу меня вспомнил. После встречались несколько раз, в этом, в XXI веке… Жалко… Таких старых друзей у меня больше нет.
С Грантом Матевосяном мы познакомились на Высших сценарных курсах. Это примечательная история. Курсы постоянно грозили закрыть как рассадник враждебной идеологии. Курсы возглавлял – мы считали его генералом КГБ – хитрый еврей Маклярский. Он очень любил курсы. Шел 72-й год, 50-летие СССР. И он придумал в тот год следующее: никого из диссидентов из Москвы и Ленинграда не примет, но примет по одному человеку от каждой союзной республики. Я думал, что попаду в провинциальное болото, но болото оказалось очень ярким и сильным. От Грузии был Резо Габриадзе. От Армении – Грант Матевосян. От Азербайджана – Рустам Ибрагимбеков и Алла Ахундова и другие. Собственно, от России никого не было. Можно сказать, меня тоже приняли как от республики благодаря рекомендации Пановой. Да, Ленинград впервые был отдельной республикой. Еще один русский был – Владимир Маканин. Но мы потом шутили – это потому, что у него на родине стоит указатель «Азия–Европа». Вот такие были курсы. И даже те, кто не стал знаменитым, тоже были талантливыми и замечательными личностями. Я обрел среду. Сдружился в первую очередь с грузином и армянином. Мне очень понравился Грант – внешне и еще своим трудолюбием: он все время что-то писал. Единственный, кто не был бездельником и пьяницей. А мы наслаждались столицей. Условия были замечательные. У каждого была отдельная комната. Мы жили в общежитии Литературного института. Каждый день нам показывали кино, которое не показывали никому, – ворованные копии. Так что мы получили хорошее зрительное образование. И, конечно, нахватались друг от друга. Сдружились. Потом, поскольку я был невыездным, очень здорово было ездить по нашей империи, везде у меня был свой человек. Все стали классиками своей литературы.
– Ваши путешествия по провинциям СССР, если можно так сказать, стали историей Империи, которой больше нет. Откуда такая тяга к странствиям?
– В детстве я бредил путешествиями, моим кумиром был Пржевальский. У всех Сталин, а у меня Пржевальский. Он похоронен на берегу Иссык-Куля. Из 16 республик я не видел Киргизию… Может, успею там побывать.
– И из каждой поездки вы привозили очерки? Сначала была «Одна страна»?
– «Одна страна» – сама по себе, это связано с поездками от Горного института, где я учился до сценарных курсов. Но именно благодаря этой поездке 60-го года и «Одной стране» в моем творчестве появляется жанр путешествий.
– Термин «травелог» для обозначения короткометражных фильмов-путешествий, зародившийся в начале XX века, перешел в литературу, и сейчас часто можно услышать, что путевую прозу называют «травелогом», у вас же – путешествия…
– «Оглашенных» я назвал романом странствий. Когда его переводили на английский, я вспомнил термин XVII или XVIII века – «пилигримидж новелл». Это более емкий термин, который раньше существовал в других литературах. Но я сразу стал употреблять слово «путешествие» и остался верен себе и языку. С подзаголовками всегда были трудности, поскольку у нас была цензура, редактура и т.д. Менялись по многу раз. В конце остановился на «Путешествии молодого человека», а до этого было еще несколько всяких «путешествий». И «Армения» много раз менялась. Например, на «Путешествие в маленькую страну» сказали, что Армения обидится. Так появились «Уроки Армении. Путешествие из России».
 |
| Андрей Битов: «Грузия для меня много раз родина». Нико Пиросманишвили. Кутёж в виноградной беседке. Государственный музей искусств Грузии (Тбилиси) |
– Как-то вы сказали: «Это насколько надо было быть сильным человеком, чтобы за две недели написать книгу». Расскажите, как вы работаете над произведением?
– Я всегда писал набело, очень экономил усилия. Вдохновение было настолько мощным, что, по-видимому, мне было легче сесть и сразу написать, чтобы никогда не возвращаться. Это не халтура. Это значит довести себя до такого каления, чтобы писалось чисто, набело. Никто не верил, что я такой тщательный работник, да и сам я знаю, что это не так, но бывают состояния, которые нужно успеть поймать… Довести себя до состояния текста – тогда ты пишешь от первого до последнего слова. Когда-то у меня была формулировка – что такое текст. Это связь первого слова с последним и каждого с каждым. Тут потихонечку нельзя, только залпом. Все, что я написал, было залповым. Если сложить то, что я написал за 60 лет, и перевести на время, то получится, что потратил я всего лишь года полтора–два. Постепенно я стал слабеть, и вещи стали мельчать. Я перешел на эссеистику, которая легче исполняется в один присест. Да, я так и называл – «в один присест». Сейчас все изменилось… У меня есть помощница, которой я надиктовываю свои размышления, потом она приносит расшифровку. От беспомощности, от бессилия я придумал разные жанры – это полуустные и полуписьменные сочинения, а монтировать, «клеить» меня научили еще советские обстоятельства. Но если лепить, то только так, чтобы это произведение было полноценным и не уступало написанному. У меня целый чемодан рукописей, потому что в последнее время писал все больше рукой – то по больницам, то по постелям. Проснувшись в пять-семь утра, я что-то царапаю, а обработать нет сил. Для меня это тоже «Гора», восхождение. Я снова нахожусь на уровне начала своих трудов. Если взять подножие, то подъем и спуск будут находиться на одном уровне.
– Все-таки вернемся к началу вашего творческого пути. С чего вы начинали – со стихов или рассказов? Один из ваших ранних сборников начинается с рассказа «Бабушкина пиала». Он был первым?
– Я любил читать и рассуждать… Был у меня приятель по Горному институту Яша Виньковецкий, сначала поэт, потом художник, эмигрировавший в Америку; тогда он входил в литобъединение при институте. Помню, была Неделя итальянского кино, хрущевская оттепель, мы шли и разговаривали о фильме Феллини «Дорога», который только что посмотрели… Яше так понравилось, как я рассуждал. Он пригласил меня в литобъединение. Дело было в 1956 году. Я ничего не писал. Но тогда обратил внимание на сборник этого горняцкого объединения за прошлый год. Тогда ни принтеров, ни ксероксов не было, он был отпечатан на стеклографе. Листая его, я натолкнулся на стихи Глеба Горбовского, которые мне очень понравились. Они были хорошие, о жизни, о том, что я сам видел, чувствовал, и реакция была живая. Я не знал, что это первые ощущения оттепели, потому что до этого я думал, что литература была до 1917 года, потом ее вдруг не стало, а тут все живое…
Сижу я на собрании литобъединения в уголке, посматривают на меня руководители и спрашивают: «Вот ты такой хороший, красивый, ты же тоже пишешь?» Я соврал, что да, пишу. «Ну, почитай что-нибудь», – просят они. Я вспомнил несколько стихотворений старшего брата, который писал стишки под Северянина. Ну и прочитал. Все поежились, потому что уровень у литобъединения был высокий, но приняли. И потом я, бедный, уже страдал, как же мне выйти из положения и что-нибудь написать. Тогда я стал автором поэмы под Маяковского: про то, как жлобы посещают Эрмитаж. Тогда меня разобрали – за что-то похвалили, на что-то указали, что нужно доработать. Вот так и началось. Я увлекся стихами, потом своей будущей женой до такой степени, что меня выгнали из института за неуспеваемость. Загремел в армию, в стройбат, служил на Русском Севере. Довольно интересная у меня была армия. Потом я был доволен, что туда попал. Это был 1957–1958 год. Я никуда не годился – был в очках, с неоконченным высшим, в общем, социально неподходящим элементом. Меня перекидывали из одного стройбата в другой. И только потом, вернувшись, я понял, что это были все бывшие зоны, которые освободились от зеков, то есть я побывал в такой странной экскурсии по зонам. Потом, когда я читал самиздат, тамиздат, все было очень знакомо.
Я продолжал писать стихи, тоскуя по невесте и боясь, что она не дождется меня. Она дождалась. Я восстановился в том же Горном институте, в большей степени для мамы, потому что у нее было требование, чтобы у сына было высшее образование. Сначала были короткие рассказы. В нулевом томе восьмитомника есть рассказ «Люди, побрившиеся в субботу». Он короткий, но тогда для меня он казался длинным. Но первый, так сказать, полнометражный рассказ, да, это «Бабушкина пиала».
Я никогда не относился к себе, как к поэту, но мне кажется, что духовные стихи у меня иногда получаются.
– Как вы работаете над сборниками, которые всегда отличает замысловатая система подзаголовков?
– Я всегда сам составляю сборники. Да, у меня сложная система подзаголовков, и графика страницы всегда значила много, я был формалистом. В советское время очень трудно было напечатать книгу целиком. Книга обязательно должна была быть «разрушена», потом начиналось «штопанье». В дальнейшем можно было опираться на то, что уже издавалось, и добавлять. Таким способом я прошел восемь или восемь с половиной книг. А потом в Америке вышел «Пушкинский дом». И все прекратилось. Шел 1977 год, когда меня перестали печатать, и до 1986-го ничего не выходило, я был в запрете…
– Опоздание – это очень важный момент вашего поколения. Ваше поколение всюду опоздало, сказали вы однажды. А что бы могло быть, если бы вы успели?
– Да ничего бы не было. Опаздывало все. В нашей стране до сих пор все опаздывает. На самом деле Россия – очень тяжелая страна, и все кажущиеся изменения очень мало что изменили. Опаздывали все, и поскольку информированность была доведена до нуля, мы не знали ни что происходит в мире, ни что происходит или происходило в литературе. Нам оставалось читать русскую классическую литературу, она была хороша сама по себе, и переводную, которая, кстати, была неплохой, поскольку туда ушло много грамотных интеллигентных людей. В общем, читали то, что давали. Не знали языков. Страна за железным занавесом.
– Чем вы занимались в «запрещенный период»? Не убило ли это в вас желание писать?
– Я никогда не писал и всегда писал. Это совершенно непонятное состояние. Когда я впервые лег с сердцем в Пироговку, один молодой талантливый доктор как кардиолог не смог поставить мне диагноз, хотя сейчас сделал выдающуюся карьеру, стал главврачом самой крупной больницы в Москве. Но тогда он поставил мне другой верный диагноз: «В жизни не видел более ленивого человека!» И он был прав. Потому что человек копит силы, а не тратит.
– Но на одной из встреч в Ереване вы сказали, что «успех от слова успел»…
– Это каламбур. Особого смысла за этим не вижу. Но на самом деле определенные вещи, когда становятся достижением, заставляют нас думать, что они сделаны вовремя.
– Вы верите в Бога?
– Безусловно! Во что же еще верить… Я всегда верил в Бога, но крестился поздно. Три раза намеревался, но что-то не складывалось. Сложилось в Грузии в 1982 году. Да, Грузия для меня много раз родина. По признанию матери, я там был зачат. Вот и крестился там в 45 лет, и горы познал там. Где-то я вычитал, что, когда крестили Русь, князья медлили со своим обращением к Богу лет до 45, чтобы еще погрешить до тех пор, пока их окрестят. Вот и я… Отец Торнике, священник, который меня крестил (он же стал моим крестным отцом), сказал мне: «Знаю грехи твои и отпускаю, но грешить с этого момента нельзя». Я крестился в храме монастыря Моцанета на берегу Куры, что в переводе означает – «верующие». Отец Торнике (Гайде Мосишвили) был известным человеком… Сейчас его нет. Первый свой срок он получил за то, что крестил целый пионерский лагерь, когда ребята купались. Это был настоящий человек. Только грузин мог такое сделать.
– Когда последний раз были в Грузии?
– Повезло, в прошлом году, на съемках. Я поехал в сопровождении дочери Анны. К сожалению, я уже не могу ездить один. Но Аня тоже любит Грузию. И вот мы полетели. У меня есть эссе по Пушкину «Грузия как заграница». Александр Сергеевич, уже будучи автором «Кавказского пленника», которого писал «вприкуску и вприглядку», так как Грузию видел издали, из Минеральных вод, оказался в этой стране, где, к слову, справил свой единственный юбилей – 30-летие. Он проехал по Военно-Грузинской дороге, побывал в Тбилиси, находясь в самоволке. Он был счастлив. Он тоже был невыездным. Россия всегда была Россией. И сейчас никакой разницы нет. Она до самой себя никак дорасти не может – ни вплавь, ни пешком не может дойти до собственного менталитета. А Пушкина я считаю современным автором.
– В чем проблема России? В масштабах?
– Этот вопрос меня очень занимает. У меня целая рукописная книга в чемодане. Она вроде как написана, но перевести ее в компьютерный текст – вот большая проблема. Я не знаю, кто этим займется, а написать ее охота. Это итог всех моих размышлений, моих странствий. Нет, это не путешествия, это попытка умом понять страну. Хотя какой уж у меня ум, но тем не менее… Мне интересно, почему Россия такая большая и чему она сопротивляется. Эта книга много раз меняла название, но я думаю, что уже остановился на «Истории с географией». Своего рода пародия на школьное высказывание «пение с физкультурой», так у меня – «история с географией». Когда-то история с географией не считались науками. История всегда была лживой. А вот география всегда была моим любимым предметом.
В книге я со своей колокольни, со своим опытом, взглядом, объяснением, хотел ответить, начиная с Чингисхана, почему же Россия такая большая. Я не знаю, кто у меня будет в предшественниках, поскольку опять не имею первоисточников. «История с географией» – это то, что я видел и чувствовал, путешествуя по миру и стране. Моя концепция такая: по сути дела, величина России – это то, что сделал этот злодей Чингисхан. Иго принесло нам и административно-территориальные деления, и создание армии, и единение враждующих княжеств. Основная идея Чингисхана была такова: если всех покорить, то придет мир. С этой идеей поскакал он на Запад, а не на Восток, пока не уперся в Восточную Европу. Россия оказалась самым большим и плоским пространством, покорившимся ему. Он объединил княжества. И когда они осознали свою силу, случилось Куликово поле. И дальше шоссе было проложено до Дальнего Востока. То есть мы совершенно свободно прошли дорогой Чингисхана.
Я никогда не уезжал из России. Не хотел, не помышлял. Моя родина – это Россия, это русский язык. И другого не надо. У меня здесь и малая родина – Аптекарский остров. И поэтому родилась вся эта эпопея «Империя в четырех измерениях». Первый том – малая родина, Аптекарский остров, наверное, самый лучший, молодой талантливый период. Потом уже Санкт-Петербург. После этого Империя – путешествия из России по просторам. Затем синтез – «Оглашенные» – попытка понять конец империи, тупик. История сложилась сама собой, на нее ушло 36 лет. «История с географией» – это эпилог, итог «Империи».
– Выйдет ли что-нибудь в свет к вашему юбилею?
– У меня есть сокровенная издательница – Людмила Дорофеева. Она очень хочет, чтобы к юбилею вышла книжечка – переиздание «Моления о чаше» (последний год жизни Пушкина). Сейчас я работаю над дополнением, но мы опаздываем со сроками. Делаю я это больше ради нее. В период перестройки мы с Фазилем образовали издательство, где сейчас Людмила – главный редактор, она издает серию «Книжная коллекция» – лучшие тексты в лучших иллюстрациях. Фазиля уже нет, а я не бизнесмен. За счет Людмилы издательство держится на плаву. Я хочу, чтобы она была довольна. На какое-то количества лет мне хватит работы без особого напряжения. У меня был том, который не вошел в восьмитомник, – «Неизбежность ненаписанного». Предполагалось, что это будет двухтомное издание. Первый выходил в XX веке, в XXI – нет. Еще хочу расширить «Пушкинский дом», хочу быть ближе к непрерывному Пушкину. Работа есть… Хочется ли мне ее делать?! Я уже вам сказал, что я самый ленивый человек. Но, с другой стороны, лень – это мать качества, поскольку не хочется сделать хуже, а лучше уже не можешь. Так что сложно…