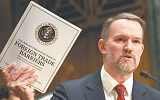Афиша, подписанная к печати 11 июля 1944 года. Война еще идет, а в Москве проходит вечер дагестанской поэзии. Документ из архива Султановых
Афиша, подписанная к печати 11 июля 1944 года. Война еще идет, а в Москве проходит вечер дагестанской поэзии. Документ из архива Султановых
Потомок известного в Дагестане княжеского кумыкского рода и блестящий исследователь северокавказской литературы, образованный европеец и подлинный ученый с живым интересом к современности, Казбек СУЛТАНОВ рассказал Алисе ГАНИЕВОЙ об «орехе бытия» и национальной самокритике.
– Казбек Камилович, как вы полагаете, проникает ли в академические круги современная литература, как часто она становится объектом научного анализа и, вообще, читают ли ученые нынешних литераторов?
– Допустим, предмет моих занятий до полного академического самозабвения – литература Шумера и Вавилонии. Непреодолимым, однако, остается тот факт, что я вглядываюсь в эту историко-литературную даль глазами человека XXI века. Катапультироваться из современности не дано никому, в том числе «человеку академическому», никак не отлученному от современной литературы.
Другое дело, ее невостребованность как объекта «научного анализа», если иметь в виду полноту описания современной литературы как не только открытой, но и сложно организованной системы. Тут все упирается в масштаб и кругозор исследователя, наделенного чувством актуального и обладающего вкусом, ничем незаменимым при различении подлинного и мнимого: можно говорить о равноправии пишущих, но не о равноценности написанного.
Есть немало примеров, когда в одном лице непротиворечиво сходятся критик с его эстетической чуткостью к стилевым и смысловым оттенкам и литературовед с его основательностью. Может же Игорь Шайтанов с равной исследовательской ответственностью писать и о современной русской поэзии, и о проблеме всемирности в споре Чаадаева и Пушкина, и о «метафизической поэзии» Джона Донна и Иосифа Бродского. Кстати, каждый номер возглавляемого им журнала «Вопросы литературы» я начинаю читать с раздела «Лица современной литературы», в котором филологическая аналитика представлена не менее убедительно, чем в академических работах по теории и истории литературы.
– Вы написали книгу о национальном самосознании и ценностных ориентирах литературы. Возможно ли ответить в двух словах, в чем эти ориентиры выражаются?
– Если можно, не в двух…
Постсоветская переоценка ценностей явилась в сопровождении эстетического релятивизма. Невроз обесценивания всего и вся стал чуть ли не религиозной доктриной.
Но ведь литература как человековедение насквозь ценностна, ибо так сложилось, что «человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя, – он создал сперва смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называет он себя «человеком», то есть оценивающим». И дальше Ницше продолжает: «Через оценку впервые является ценность; и без оценки был бы пуст орех бытия».
Вопрос о ценности – вопрос о литературе как литературе. Вспомним о неплохих прозаиках Булгарине и Загоскине, но сопоставимы ли их когда-то очень популярные романы «Иван Выжигин» и «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» с пушкинской «Капитанской дочкой»?
Ни о какой эталонности на все времена, разумеется, речь не идет, как и о том, чтобы превращать историю литературы в «историю генералов», от чего предостерегал Тынянов.
Я о другом: находить литературу в литературе, значит отделять зерна от плевел, богатство «особенного» от духовной нищеты «отдельного», отдавая себе отчет в том, что ценностная глухота столь же противопоказана литературе, как и идеологический надзор.
Сегодня же литература мне представляется собранием НЛО – эстетически и ценностно неопознанных литературных объектов. Принцип избирательности скромно отошел в тень, а роль идентификаторов состоятельности книги взяли на себя сам факт ее издания и последующий ритуал презентации.
Есть и такой поворот темы, связанный с моим интересом к северокавказским литературам. Национальное своеобразие выдается за своеобразие художественное, актуализация этноспецифики – за цель литературы, текст – за хранилище этнографической непохожести. Добросовестное воспроизведение этнокультурных реалий само по себе не делает литературу литературой. Но может нести в себе некое эстетико-мировоззренческое ограничение, ослабляющее потенциальные возможности родной словесности вплоть до уровня «внутреннего потребления».
Речь, понятно, не об отлучении «местного колорита» – он не может не присутствовать. Я веду к тому, что национальная характерность, чтобы быть адекватно понятой, нуждается в органичном сплаве с экзистенциальными вопросами человеческого существования как такового. Во имя того, как сказал поэт, «чтоб не был малым человек, принадлежащий малому народу».
Пройдя через опыт Кавказской войны, Лев Толстой задумался о «движении общей жизни», одному из его героев «открылась особенная красота чуждой ему народности», а другой именно на Кавказе остро пережил чувство принадлежности «к роду человеческому»…
В упомянутой вами книге «Национальное самосознание и ценностные ориентации литературы», да и в последующей – «От Дома к Миру» (изд. «Наука»), есть важный для меня внутренний лейтмотив: самосознание должно стать таковым, чтобы быть национальным.
Ни с чем не сравнима роль литературы в продуцировании новых смыслов и, как следствие, национальной самокритики, вне которой нет и быть не может духовного самоопределения человека и народа. Столкновение устоявшихся и нарождающихся ценностей, инерционной поэтики и перспективных художественных интенций задает вектор развития. И как можно понять решающие смысловые сдвиги в литературе, если воспринимать ее как всего лишь летопись фактов, оставляя за скобками эстетически и этически значимые ценностные ориентации?
– Да, действительно, Казбек Камилович, но давайте перейдем от общего к частному. Расскажите, пожалуйста, о дагестанском литпроцессе, каким вы его застали в советские годы?
– У дагестанской литературы ХХ века хорошая наследственность: имена Чанки, Батырая, Ирчи Казака, Етима Эмина, Махмуда говорят сами за себя. Завещанная ими школа словотворчества, как и издавна существовавшая мощная просветительская традиция, составили тот символический капитал разноязычного литературного сообщества, который и сегодня не утратил своей притягательности.
Советские годы были разными. Идеологический пресс то усиливал давление, то являлся под маской «оттепели». Был успешно выращен тип конъюнктурно мыслящего литератора, «произведения» которого имели «ограниченный срок хранения». Рекорд ангажированности и утраты исторической памяти принадлежал поэту, который так обращался к Ленину: «ты пришел и людьми нас назвал».
Но, с другой стороны, очевидны внутренний антагонизм между литературой и идеологией, драма талантливых людей, изнуряющее их двоемыслие. Феномен Эффенди Капиева – пример самореализации вопреки обстоятельствам. Последний из его двадцати блокнотов военных лет заканчивался предсмертной записью: «Как странно: книжка кончилась минута в минуту перед операцией, хотя я и не хотел этого». Капиевские «Фронтовые книжки» – выдающийся образец исповедальной прозы («как стон для больного…»), разговор с самим собой человека, преданного времени («…разве я не мерюсь пятилеткой»), но и прозревшего. Он то заклинал себя («недостатков у нас много, … но основа наша золотая, но цель наша велика, но дорога наша пряма!..»), то доверял бумаге небезопасные откровения: «Великая и трагическая эпоха моя, тебе нет дела до песчинок… Ты идешь колесом через меня, и кости мои трещат под твоей ледяной поступью…».
Если русская литература, по Салтыкову-Щедрину, возникла по недосмотру начальства, то и в дагестанской литературе имел место свой недосмотр.
К числу преодолевших страх, проявивших мужество плыть против течения я бы отнес и Халил-Бека Мусаясула. Самый яркий нонконформист в дагестанской культуре ХХ века, выдающийся живописец, отказавшийся приравнять кисть к штыку, он покинул родные пенаты в 1921 году, после того, как «Советы приказали мне оформить поезд-люкс, предназначенный для Ленина, картинами побежденного Кавказа». Его замечательная книга «Страна последних рыцарей» увидела свет в Мюнхене (1936) на немецком языке, а до дагестанского читателя дошла с опозданием через 63 года – в 1999 году вышла в переводе Сияли Гаджиевой.
Я бы сказал о мусаевской прививке к дереву дагестанской культуры и литературы, об этике и эстетике свободного выбора, о спасительном творческом инакомыслии, о союзе рафинированного европеизма и высокого традиционализма: «Многое я потерял, что-то новое приобрел, но неприкосновенной осталась в моем сердце родина, и она как вечность простирается позади меня и передо мной!»
Проект революционной переделки человека и безоговорочной верности «генеральной линии» поначалу вызывал энтузиазм дагестанских литераторов, которые на разных языках охотно аккомпанировали политической злободневности. Но чем обернулась эта нерассуждающая преданность, если во главу угла поставить собственно литературные проблемы?
Попыткой ответить на этот ключевой вопрос стала моя первая книга «Поэзии неугасимый свет», удостоенная специального разгромного постановления обкома КПСС, дружно поддержанного общим собранием Союза писателей Дагестана. Двенадцать отзывов на книгу в различных центральных изданиях никак не повлияли на образцово проведенную расправу с молодым автором. После вызовов «на ковер» в обкомовские кабинеты я отчетливо понял, что власть предержащих особенно раздражала идея самоценности литературы и многовариантности ее развития, воспринятая как дерзкое посягательство на единственность «магистрального пути».
Если не ошибаюсь, книга стала первым и осталась последним вызовом в брежневские годы идеологическому контролю над дагестанской литературой и официальной риторике о ее расцвете и «восхождении к зрелости». Книгу, что называется, проглядели…
Расул Гамзатов позднее подарил свой сборник стихов с надписью: «Казбек, ты умный, но не мудрый». Мудрость предполагала, видимо, оглядку на тогдашние правила игры. Последствия, конечно, нетрудно было предвидеть, но, к счастью, мне удалось убедить себя в том, что выговориться важнее, чем оглядываться…
– А бывало ли так, что вы со своим отцом, известным на Северном Кавказе критиком, радикально расходились во взглядах на того или иного писателя?
– Во вступительной статье к недавнему «Избранному» отца (см. «НГ-EL» от 17.01.13) я писал о его методике воспитания невоспитанием, исключавшей морализаторство и опеку. На меня больше воздействовало само присутствие отца, его сдержанная речевая манера и нравственные оценки.
А вот в литературных делах мы шли непересекающимися курсами. Сейчас я лучше понимаю, что он осознанно не вмешивался и не пытался корректировать траекторию другой творческой судьбы. Воспитательные функции он как бы передал своей огромной библиотеке, которую собирал с довоенных студенческих лет, проведенных в стенах знаменитого ИФЛИ.
Я подрос и уже печатался, но отец как бы не замечал этого. Не помню случая, чтобы он выразил свое отношение к моей статье, хотя я искал и нуждался в его реакции. После моих публикаций в «Литературной газете», «Вопросах литературы», «Дружбе народов», «Юности», после телеграммы Кайсына Кулиева о моей статье в «Известиях» мне показалось, что он с большим интересом стал относиться к тому, как и о чем я пишу.
Радикальное расхождение было однажды – по поводу все той же моей книги. Все вокруг искренне недоумевали, как мог многоопытный Камиль Даниялович проглядеть «вольнодумство» сына-нигилиста. Никому в голову не пришло, что отец даже не подозревал о моем замысле. Когда поднялся шум и мама занервничала, он скупо, но твердо дал понять мне, что нельзя так явно подставляться и так бездумно относиться к своему будущему. Был и специализированный упрек в неисторичности и в излишней субъективности.
Но если говорить о главном, то, возвращаясь памятью к отцу и к секретам его «педагогики», я все чаще вспоминаю известную мудрость: «помогай тому, кого любишь, от тебя освободиться»…