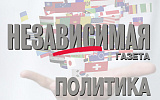Совсем недавно Владимир Войнович представил читателям свою новую книгу – увесистый том мемуаров «Автопортрет. Роман моей жизни». Это отличный повод и вспомнить прошлое, и поразмышлять о настоящем и будущем. С писателем беседует Андрей Щербак-Жуков.
– Владимир Николаевич, как так получилось, что молодой поэт, писавший тексты для жизнерадостных песен, вдруг за очень короткое время превратился в едкого сатирика и диссидента-антисоветчика?
– Собственно, ничего особенного не произошло. Я ведь с самого начала писал не только те тексты песен, которые вы знаете, но и совсем другие стихи, которые никто не печатал, и они были совсем другими. Как раз эти песни появились случайно... Я был начинающим поэтом. А тогда все, кто считал себя поэтом, даже начинающим, с презрением относились к поэтам-песенникам. И я как-то сказал своему приятелю, что это, мол, не поэзия вовсе. А он мне в ответ: «Ты так говоришь, потому что сам никогда не сможешь написать песню». Я говорю: «Смогу!» Он предложил заключить пари. Но я сказал, что могу написать только текст, а для того чтобы получилась песня, мне необходимо еще найти композитора, который написал бы музыку. Так наш спор не состоялся┘
Должен сказать, что я, когда только приехал в Москву, очень бедствовал и пробавлялся случайными публикациями. Но потом устроился на постоянную работу в газету «Московский водопроводчик», которую впоследствии переименовали в «Трудовую вахту». Там у меня была зарплата 880 рублей, которые после денежной реформы 60-го года превратились в 88. Но меня и оттуда очень скоро уволили – сразу после окончания испытательного срока. Моя должность понадобилась племяннику управляющего трестом «Мосводоканал»┘ Тогда я устроился работать на радио, в редакцию сатиры и юмора, которая выпускала передачу «С добрым утром». Туда приходили авторы, приносили различные тексты – редакторы над одними хохотали, а другие отбраковывали, а я не видел между теми и другими никакой разницы. Я был младшим редактором, и мне тоже предложили сделать первую самостоятельную передачу. Стараясь ориентироваться на тот вкус, который существовал в редакции, я подобрал тексты, сложил их в папку и отнес главному редактору. Тот прочитал, вызвал меня к себе и спросил: «У тебя вообще чувство юмора есть?» Я ответил: «Не знаю». «Выбрось все это», – посоветовал главный редактор. Я выбросил и подумал, что теперь меня и отсюда уволят по истечении испытательного срока┘ Вот в таких раздумьях я пребывал.
И как-то вечером я обратил внимание, что наш редактор Наталья Сухаревич кого-то обзванивает по телефону. Оказалось – поэтов-песенников: Исаковского, Матусовского, Долматовского – всех, кто был тогда известен. Она звонит, что-то говорит, а потом разочарованно вешает трубку. Я спросил ее, в чем дело. Она объяснила, что требуется текст для песни на космическую тему. Поэты спрашивают ее: «Сколько времени дается на написание?» Она отвечает им: «Две недели». Те бросают трубку, сказав, что это несерьезно, – мол, для такой сложной работы нужен больший срок. «А давай я попробую», – предложил ей. «А ты что, стихи пишешь?» – спросила она. «Ну, немного┘» – «А песню – сможешь?» – «Ну, ты же все равно ничего не теряешь – не смогу, так не смогу┘» – «А тебе сколько времени нужно?» – спрашивает она настороженно. «Завтра принесу», – говорю я. И принес «На пыльных тропинках далеких планет┘» В ней нет никакого коммунистического пафоса, а только – мои юношеские мечты о полетах┘ Потом появился мой перевод финской песни «Рулатэ», потом другие тексты┘ Я написал всего одну по-настоящему советскую песню – это «Комсомольцы 20-го года». Мое мировоззрение в то время еще полностью не сложилось, но собственно мои стихи были написаны совсем в другой тональности. Они не были ни советскими, ни антисоветскими. Но когда все-таки одно из них напечатали, то маршал Советского Союза, министр обороны Малиновский сказал, что эти стихи стреляют в спину Советской армии. А там всего-то навсего было сказано о том, что девушки на танцах солдатам предпочитают офицеров. А когда меня первый раз вызвали в КГБ, то спросили, почему я пишу такие грустные стихи, неужели не вижу никакого повода для оптимизма.
Эти песни сыграли важную роль в моей биографии, мне было приятно, что их с удовольствием поют и слушают, но при этом они не были характерным проявлением меня. Моя первая опубликованная повесть тоже была в какой-то степени романтичной, но один бдительный критик уже тогда заметил, что «Войнович использует чуждую нам поэтику изображения жизни, как она есть». Я совершенно искренне хотел быть советским писателем, потому что прежде всего хотел, чтобы меня печатали. Но при этом я старался «изображать жизнь как она есть», то есть такой, какой я ее вижу.
И только потом мое мировоззрение начало обостряться. Хотя Сталина я терпеть не мог уже с самого детства. И к советской власти у меня было неосознанно брезгливое отношение. Но это не было никак сформулировано. Перемены, которые произошли во времена оттепели, я воспринял как надежду на будущее и решил, что так жить можно┘
– То есть, выходит, критики сделали из вас антисоветчика? Если бы они не педалировали эту тему, вы могли бы остаться в русле советской литературы?
– Нет, это не так. Все развивалось естественным путем. Моя первая повесть еще была вполне безобидной, но уже второй рассказ был намного острее, потом – еще острее┘ Что-то я узнавал, над чем-то задумывался┘ В 60-м году я написал первую повесть, а еще в 58-м задумал «Чонкина┘». Правда, когда существовал только замысел, я не думал, что это будет такая уж страшная сатира и меня за нее будут так бить. Я хотел написать о таком нелепом солдате, которых я много видел, – что-то вроде Швейка. И в период оттепели что-то подобное напечатать еще было возможно, но потом стало ясно, что все – уже нельзя┘ Поначалу во мне еще жил романтизм, но уже тогда его в себе давил. Я вообще очень не люблю романтиков.
– Почему же?
– Потому что романтики натворили очень много бед. Ведь все революционеры – это романтики. Хоть сам я и не циник – я считаю себя реалистом, – но все же циников предпочитаю романтикам. Потому что циник, хоть и плохой человек, но если он думает, что для достижения такой-то цели ему надо кого-то убить, то он убьет одного человека и этим ограничится. А романтик думает масштабнее: «Вот сейчас сто тысяч этих мы убьем, и тогда пять тысяч других или, наоборот, миллион других будут жить хорошо. Церкви разрушим, все перестанут верить в Бога┘ Мир хижинам, война дворцам┘» Это же все придумали романтики. Они не считаются ни с какими законами логики и их прекрасные мечтания оборачиваются страшными преступлениями. Потому что утопию претворить в жизнь нельзя никак, кроме как преступными способами. А романтики ради достижения своих светлых, как им кажется, целей совершают преступление, у них не получается, они сердятся и начинают совершать еще большее преступление и тем самым еще больше отдаляются от своего идеала.
– «Москва 2042» – это антиутопия┘
– Один мой друг сказал, что это анти-антиутопия┘
– А как вы относитесь к тому, что в последнее время появилось очень много всевозможных утопий и антиутопий весьма невысокого художественного уровня? Все это как-то занижает планку┘
– Антиутопии возникли из общего разочарования. Кстати, из разочарования действиями этих самых романтиков. Появился Кампанелла, другие утопии. А когда начали совершаться попытки реального воплощения их в жизнь, появились антиутопии – «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла┘ Успех этих книг породил целую волну подражаний. Кроме того, мы сейчас живем в такое время, когда, кажется, что все возможные утопии уже были опробованы в реальности. Уже нет веры в то, что мы, как говорил Чехов, «увидим небо в алмазах», что технический прогресс или что-то еще сделает жизнь замечательной, все люди подружатся и, как говорил Маяковский, будут жить «в едином человечьем общежитии». Все эти идеи потерпели крах, и это породило разочарование и волну антиутопий, которая по инерции катится до сих пор.
– И при этом почему-то в ХХ веке совершенно деградировала русская сатира. От высоких образцов Гоголя и Салтыкова-Щедрина она дошла до поверхностных скетчей, выступлений по телевизору. Что происходит с русской сатирой?
– То, что показывают по телевизору, сатирой можно назвать только условно. Это просто какое-то смехачество. Все шутки ниже пояса: бабы, выпивка, теща┘ Такое есть во всем мире. В моем понимании, сатира – это литература, которая отражает какие-то глубинные вещи.
– Так вот почему такой сатиры стало так мало в ХХ веке┘
– Ну почему же – есть «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева.
– Ну, может быть, еще «Остров Крым» Василия Аксенова┘ Ваш «Чонкин┘» – и все!
– Да, сатира – это трудноуловимый жанр. Мне ведь часто разные авторы присылают свои сатирические произведения. Но все они обычно очень просто сложены – это всегда сатира на политический строй, с простыми намеками, например, на директора Медведева и завхоза Путина┘ Я противник такой сатиры. Или высмеиваются какие-то конкретные ситуации.
– Ну да – все это, конечно, очень мелко.
– Да, все это очень мелко. А что же такое настоящая сатира? Я вот, к примеру, себя считаю сатириком довольно условно и только частично. И Гоголя считаю сатириком условно. И даже Салтыкова-Щедрина. Хоть он, конечно, в большей степени сатирик. Но именно откровенно сатирические произведения мне у него меньше всего нравятся. Но Гоголя я обожаю во всех его проявлениях┘
Как ни странно, я никогда не думал, что же такое сатира. А сейчас вот о чем подумал. Вот говорят, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. Так вот сатиру, пожалуй, нужно писать реалистически, но еще лучше, чем пишут реалисты. Настоящая сатира – гоголевского плана, гоголевской глубины – отражает пороки человеческой души, а это гораздо выше и важнее, чем бичевание пороков какого-либо конкретного социального или политического строя. Настоящая сатира изображает глубинные черты народной жизни. Она описывает такие обыкновенные человеческие черты, как лень, жадность, но так, что это превращается в нечто типическое. Для меня гоголевская сатира ценна в первую очередь тем, что в ней есть яркие характеры, которые становятся нарицательными. Гоголь показывает народ – хоть и не с лучшей его стороны. Вот это настоящая сатира. А когда автор высмеивает теперешнее устройство, какие-то конкретные политические фигуры, – это не сатира, это эстрада.
– Ваши произведения переведены на десятки языков, и у вас, вероятно, регулярно происходят встречи не только с российскими, но и с зарубежными читателями – в чем разница восприятия ваших книг россиянами и, скажем, немцами или англичанами?
– Сейчас у меня стало меньше встреч на Западе. А разница, конечно, есть. Потому что литература впрямую непереводима на другой язык. Всеми признано, что поэзия непереводима, но проза – тоже непереводима. И именно такие непереводимые детали делают прозу таким обаятельным видом человеческого творчества. Вот, к примеру, написано: «Я достаю из широких штанин┘» Каждый россиянин понимает, что это скрытая цитата из Маяковского. Хемингуэй говорил, что все самое важное в произведении должно прятаться в подтексте, так вот этот самый подтекст всегда имеет национальную форму. Так что все иностранные классики поступают к нам в обедненном виде. И наши писатели к ним – тоже. Так, я уверен, что Гоголя перевести вообще невозможно. Я не верю, что можно перевести Платонова. И того и другого невозможно переводить формально. Переводчик должен обладать таким же талантом, как они. Но тогда ему проще будет написать что-нибудь свое.
Так что зарубежный читатель и мои произведения получает в неком обедненном виде. Но что касается «Чонкина┘», то в этой книге есть характер, близкий и понятный всем, вне зависимости от национальности. Об этом мне сказал продюсер-англичанин, который делал по этой книге фильм: «Вы нашли универсальный характер». Возможно, этим и объясняется успех моих произведений на Западе. Но все равно зарубежный читатель не имеет возможности понять их полностью. Они насыщены скрытыми цитатами. Ну, например, в том же «Чонкине┘» в НКВД доносят, что поэт Исаковский написал песню: «Как увижу, как услышу┘» – а если в нее вслушаться, то получится: «Каку вижу, каку слышу». Ну как это перевести? Иностранец может только постараться вообразить, что это может значить для русского человека. Но все равно он получает некий усеченный вариант. Конечно, бывает так, что какая-то картина, даже воспроизведенная в черно-белых тонах, все равно будет производить впечатление. Но все равно замысел художника полностью оказывается недоступным.
– А чего нового могут ждать от вас читатели в скором будущем?
– Я уже как-то сказал где-то, что естественное продолжение мемуаров – это некролог. Но тем не менее я надеюсь, что в этом промежутке еще что-нибудь напишу. Я работаю над киноповестью, из которой может потом выйти сценарий картины. Уже есть заинтересованность со стороны кинематографистов.
Один замысел я хочу, если можно так выразиться, «доосуществить». У меня была книга, которая так и называлась – «Замысел». В ней соединились мемуары и замыслы каких-то произведений. Но, работая над «Автопортретом», я эту книгу разрушил – все автобиографические куски включил в новое издание. Так что переиздавать «Замысел» в прежнем виде теперь не имеет смысла. А там было несколько глав от имени женщины, и вот я теперь хочу закончить этот когда-то начатый роман.
– На пресс-конференции вы сказали, что будут новые редакции «Автопортрета»┘
– Да. Это у меня всегда так – как только заканчиваешь книгу, сразу думаешь, вот бы ее начать заново и написать совсем по-другому. Это в первую очередь касается вымышленных сюжетов. Но и здесь такая же ситуация – я уже сейчас заметил очень много упущений. Например, я должен был помянуть добром как можно больше ушедших людей, память о которых я сохранил┘ Я немного отойду от текста, а потом снова его перечитаю и что-нибудь добавлю.














.jpg)