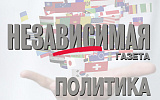Михаил Веллер до сих пор работает на печатной машинке.
Михаил Веллер до сих пор работает на печатной машинке.
Фото ИТАР-ТАСС
Михаил Веллер – потрясающий собеседник: экспрессивный, находчивый и эрудированный. За время нашей беседы мне ни разу не удалось поставить его в тупик...
– Михаил Иосифович, предлагаю сначала поговорить о философии, а потом о литературе. Вы не возражаете?
– Как будет угодно, только я отрицаю, что между литературой и философией проходит четкая граница. Одно перелезает в другое. Это видно по таким произведениям, как «Война и мир» Толстого, «Маленький принц» де Сент-Экзюпери и так далее. Литература и философия смыкались, когда в Москве существовал Институт философии, литературы и истории – знаменитый ИФЛИ. А когда в XX веке появился экзистенциализм, так им в основном литераторы и занимались.
– Вам близок принцип Камю «Хочешь заняться философией, напиши роман»?
– Мне вообще не близок Камю. Он вызывает у меня глухое раздражение, как и все, условно говоря, фигуры модерна, постмодерна и экзистанса XX века. Они не нравились мне никогда, но я до поры до времени стеснялся в этом признаться. А теперь перестал стесняться. Камю следует рассматривать как человека больного. Если бы его вовремя показали квалифицированному психоневрологу и прописали соответствующий курс лечения, его философия должна была бы решительно измениться. Не было бы ничего из того, что он написал. В 18 лет я читал «Постороннего» как откровение. В эпоху расцвета соцреализма это было круто. Но теперь очевидно, что это совершеннейшая фигня. И не знаю, как можно выдавать эту типическую «антисоциальную антиадаптацию» за постижение глубин человеческого духа.
Точно так же я не понимаю, как можно выдавать за проникновение в глубины человеческого духа произведения де Сада. Полнообъемный садизм не есть свойство подавляющего большинства людей, как это пытался представить де Сад. Так что в гробу я видал Камю.
– Но я предлагаю обсудить тезис Камю безотносительно к личности французского философа. Камю утверждал всего лишь, что в современных условиях, если хочешь заняться философией, лучше написать роман. Чтоб высказать этот тезис, совсем не обязательно быть философом, экзистенциалистом и даже просто больным человеком.
– Мне ваша последовательность напоминает фразу из «Трех мушкетеров»: «Железная воля Миледи не давала д’Артаньяну отклониться от цели разговора». Я думаю, что если кто-то хочет заниматься философией, то пусть ею и занимается. Совет Камю мне напоминает анекдот. Там кто-то говорит, что морская свинка – это как умная женщина: и не свинка, и не морская. В результате получится философский роман, который и не роман, и не философия.
Более того, это приводит к недоразумениям. Вот принято считать, что среди русских писателей был большой философ Достоевский. Я долго не мог понять почему, пока не почитал лекции в западных университетах. Тогда я узнал, что филологи не читают философов, а философы не читают беллетристики. Западные филологи не читают настоящих философов, а западные философы не читают других, кроме Достоевского, русских писателей. А Достоевского читали и те, и другие. Таким образом, Достоевский стал восприниматься на Западе как величайший из русских философов. На самом деле это, конечно, не так.
– А как вы относитесь к современной российской академической философии?
– Вы меня извините, в современной России не существует философии, кроме, простите великодушно, моего энергоэвоционизма. Философия – это цельная система взглядов на мир и объяснение этого мира, которое охватывает Универсум от законов Космоса до законов человеческой психологии. Между этими крайностями пребывает все остальное, как между двумя обкладками аккумулятора, и имеет свое объяснение и логическую увязку внутри цельной системы. В России ничего подобного никогда не существовало. В России было философствование, когда философствовали от точки А до точки Б. Точка А выбиралась произвольно, точка Б – аналогично, а все, что вне отрезка, философа как бы и не касалось.
Кроме того, те, кого мы называем философами, скорее философоведы. Они поступают на философский факультет, изучают разные мировые философии, делают публикации, пишут кандидатскую, затем докторскую. То есть они комментаторы, интерпретаторы, анализаторы других философов, но сами не философы.
– Вы читаете современных российских философов или просто игнорируете их?
– Я не могу их игнорировать. Они пишут книги, эти книги мне попадаются. Я хорошо знаком с трудами самых заметных фигур в российской философии XX века Алексея Лосева и Мераба Мамардашвили. Мне это не представляется философией – это отдельные философские рассуждения на отдельные философские темы при отсутствии единой собственной философской концепции.
– Мне приходилось беседовать с Александром Зиновьевым. Это был человек, который масштабом своих претензий превосходил всех остальных, с кем мне приходилось встречаться. Он полагал, что является творцом единственной последовательной и строго логичной философии, причем не только в России, но и в мире...
– Это безусловно делает честь его самомнению и уверенности в себе, но не делает чести его философии, которую мне в его сочинениях не удалось обнаружить.
– Тем не менее я полагаю, что не только в мире, но и в России существует несколько оригинальных цельных и самодостаточных философий...
– Любая серьезная философия есть стройная логическая законченная и оформленная пирамида. В XX веке таких систем не было. Последние остались в XIX веке.
Свою систему наиболее полно я изложил в книге «Все о жизни» и тезисно уточнил в «Кассандре». Человек – это двухуровневая система, существующая субъективно на уровне ощущений и объективно на уровне действий. Суть ее вкратце в том, что все существование есть энергоэволюция, материя есть агрегатное состояние энергии, со временем идет усложнение материальных структур и повышение их энергоемкости, а человек и его история совершенно вписываются в картину эволюции Вселенной и являются ее естественной частью.
– Но можно представить мир как эволюцию Абсолютного Духа а-ля Гегель, или как объективацию Мировой воли в духе Шопенгауэра, или как самодвижение материи в духе Дидро и Бюхнера┘
– Все лучшее, что было в их системах, учтено в моей теории. Факты, на которые они опирались, получают гораздо лучшее объяснение в рамках энергоэволюционизма.
– Что системы Шопенгауэра и Ницше более других близки вам, чувствуется с первой страницы┘
– Только не Ницше. Ницше я считаю литератором, метафористом, философствующим беллетристом, но не философом. Сильная его сторона была в том, что его сочинения оказались адекватны тому классу, который Солженицын назвал «образованщиной». Ницше в философии – это все равно что гастербайтер в нашем обществе, представитель самого низшего интеллектуального слоя.
– Но то, что в сочинениях Ницше переводят как «воля к власти», в оригинале – Wille zur Macht, то есть скорее «воля к могуществу». Это очень перекликается с тем, что вы в своих книгах называете стремлением к максимальному действию.
– В этом вы абсолютно правы. Здесь Ницше попал в точку.
– Что вас убеждает, что ваша система – отражение каких-то объективных закономерностей?
– Знаете, я не сразу пришел к своей, как я ее полуиронически называю, «Всеобщей теории всего». Вначале я задумывался над более частными вопросами. Подобно герою Хемингуэя, я думал над вопросом: «Почему это все хорошие и порядочные люди так непереносимо скучны, а люди по-настоящему умные и интересные умудряются в конце концов отравить жизнь и себе, и всем близким». Вот от этого я потихоньку и начал танцевать. В результате у меня получилась законченная система, где одно идеально сочетается с другим, а в целом образует совершенную мозаику.
– Как я понял, вы отталкивались от этики?
– Я никогда не употреблял выражений «этические проблемы», «этическая сфера» и т.д. Меня интересовало, как оно устроено все. Вроде мы все хотим быть счастливы, но клонится все к тому, что пока мы не грохнем всю эту Вселенную, то, по-видимому, не успокоимся. Но зато, я думаю, конец этой Вселенной будет началом новой Вселенной.
– Этот тезис ставит вашу систему в связь с системами XIX века. Шопенгауэр и Эдуард фон Гартман считали целью уничтожение всего существующего. Вы идете дальше и предлагаете уничтожение Вселенной с одновременным порождением новой. Вы согласны с тем, что с началом XX века философия вышла из правильного русла?
– Философия растеклась, раздробилась на ряд прифилософских и подфилософских наук и поднаук. Философия пошла по линии формальных усложнений, создания разных терминологических систем, при усвоении которых значительная часть интеллектуальной энергии – читателя, потребителя, адресата, как угодно, – уходит на перекодирование терминов в нормальный человеческий язык, потому что за каждым термином есть огромный куст понятий, которые в разных системах не совпадают между собой. Последним великим философом был Герберт Спенсер. Философии в XX веке мне наковырять не удалось.
Исключение – инструментализм Дьюи, который представляет собой развитие позитивизма XIX века. Но это направление представляется мне ограниченным, поскольку вопросы, которые относятся к психологии и этике, инструментализм интересуют во вторую очередь. А не должно быть ни первой, ни второй очереди, потому что все существует как единое целое.
– Но и у вас также разработана оригинальная терминология. Скажем, все мы понимаем, что такое «воровство». Но в своей книге «Великий последний шанс» вы даете ему такое определение (если выдрать из контекста): «Воровство – это максимально эффективная форма самообеспечения социобиосистемы необходимыми и дополнительными энергетическими ресурсами (поскольку и деньги, и хлеб, и дом имеют энергетический эквивалент и суть агрегатные состояния энергии)». Мы вновь сталкиваемся с необходимостью перекодирования.
– Что ж, действительно очень трудно сложные вещи излагать простым языком. Когда начинаешь танцевать от печки и насколько возможно упрощаешь изложение, зашлифовываешь переходы, чтобы изложение шло гладко, то все равно одни говорят, что получается сложновато, а другие – что это банально, очевидно, понятно само собой. У каждого свой уровень. Есть люди, которые считают, что если вначале все банально и очевидно, то и все целиком должно быть банально и очевидно. Я думаю, что это не так.
– Кстати, то, что в центр своей системы вы положили категорию «энергия», не связано ли с тем, что вы сам человек энергичный?
– Самые энергичные и работоспособные люди, которых я встречал в своей жизни, – это два моих друга и очень разных человека: Владимир Соловьев и Дмитрий Быков. Каждый из них работает человек примерно за восемь, хотя Владимир Соловьев, возможно, человек так за двенадцать. У меня энергетический уровень ниже. К моей философии это никакого отношения не имеет.
Я думаю, что люди в возрасте лет примерно пяти-шести начинают задаваться вопросом: как же устроен мир? А может быть, мы все живем у великана в банке? А за что меня наказала воспитательница, ведь понятно, что она поступила несправедливо, но я-то знаю, что она хорошая? К 33 годам у меня сложилась система, как это часто бывает неким скачком: знания накапливаются, накапливаюется, ты привык думать об этом постоянно, и вдруг приходит некое озарение. А уже в 50 лет я это все оформил.
Я должен сказать, что добросовестно и неторопливо подошел к предмету. Все эти годы я пытался понять, что является базовым уровнем для всех рассуждений, построений, анализов. Во что упрешься, если роешь дальше и дальше. Когда философ разрабатывает философскую систему, то это напоминает построение пирамиды вершиной книзу. Он сужает, чтобы это острие поставить уже на твердый скальный уровень. У Декарта это тезис «я мыслю, следовательно, существую». У Шопенгауэра это Мировая воля.
У меня получилось, что это энергия. Причем то, что я называю энергией, достаточно близко к тому, что Шопенгауэр называет Мировой волей, достаточно близко к тому, что можно назвать Богом – только не в примитивно-обрядном смысле, а в глубоком смысле этого слова, то есть причина всех причин, над-эйдос, по Платону. В основе мироздания лежит способность созидания, трансформации, развития. Именно энергия есть базовый уровень.
– Но ведь был уже «энергетизм» Вильгельма Фридриха Оствальда?
– Браво, первая валторна! А еще был другой немец Юлиус Роберт фон Майер! Так вот, когда я набросал первый эскиз своей системы, мне было 35 лет, стоял 1978 год, я и в помине не слышал про Оствальда и Майера, не знал слова «синергетика», а о Владимире Вернадском знал только его фамилию и слово «ноосфера». Это потом я начал находить соответствия, пересечения, но что касается энергетизма Оствальда, то мне он представляется слишком ограниченным, немножечко прямовато-простоватым, хотя мысль в его основе лежала верная.
– Как вы считаете, не могли бы литературные критики выступить в роли посредников между философией и литературой?
– Сомневаюсь. Я изложил свое отношение к литературной критике в лекции «Критика критики», включенной в недавно вышедшую книгу «Перпендикуляр». С тех оно не менялось.
Я попробую резюмировать. Я знаю среди критиков людей образованных, объективных, доброжелательных. Мое недоверие к критике укрепилось, когда в середине 70-х, будучи молодым специалистом, я зашел к своему однокашнику, который работал в филиале Музея истории Ленинграда в Петропавловской крепости. Он сидел в полуразрушенном равелине: бетонные обломки на полу, какие-то лужицы, письменный стол с помойки, стены облезли. И вот к этой обшарпанной кирпичной стене прибит лист ватмана, на котором плакатным пером было написано – как увидел, так и запомнил:
«Критик должен быть готов в любой момент и по первому требованию заступить на место критикуемого им и исполнять его обязанности профессионально, компетентно и исчерпывающе; в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса». Подпись: доктор Йозеф Геббельс. Вот вы в начале беседы говорили, что не важно, кем высказана мысль, если она верная. Вот и я так думаю.
Критик может быть умнее, объективнее, образованнее писателя. Он отличается отсутствием креативного начала! Он ничего не может сам!.. Если литература – производная от жизни, то критика – производная от литературы. Эта вторая возгонка дает совершенно импотентский материал. Когда критик пытается написать роман, получается ужасно. Он думает, что знает, как пишутся романы, а на самом деле ни фига, потому что он никогда не достигал того перевозбуждения нервной системы, которое необходимо для творчества. Он никогда не мог писать так, чтобы возник драйв на накале нерва, чтобы его эмоциональное напряжение передавалось. И вот, когда Вячеслав Курицын, или Владимир Новиков, или Виктор Топоров┘
– И Дмитрий Бавильский┘
– Ну да┘ попытались написать беллетристические книги, они оказались ниже всякой критики.
– Допустим, критик не может того, что делает писатель, но и не каждый писатель сможет то, что делает критик┘
– А что может критик? Приведите пример? А я приведу. Помнится, на первом курсе университета я придумал тему диплома: «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова в современной ему русской критике», потому что я не был согласен с тем, что Печорин человек хороший, мне представлялось со школы, что он совершенный подонок. Здоровый, храбрый, красивый, но по всем поступкам он сволочь, и ничего больше. Может быть, страдающий, я не знаю. Если страдает – пусть напьется и уберется к чертовой матери.
И вот когда я читал эти ветхие желто-серые журналы XIX века, у меня челюсть отвисла. Положительных отзывов не было!.. Ни одного. От Николая II до критиков-разночинцев. И ни один из них не обратил внимания, как хорошо это написано. Никогда в России не писали таким языком, никогда не было такого стиля, такой легкости интонации и блеска фразы! Тогда и закрались первые подозрения┘
А это изречение Белинского о том, что «Пушкин – это русский человек в гармоническом развитии┘» и т.д. Какая чушь! Какое гармоническое развитие?! Он, современник Пушкина, кому мозги компостирует?! А то мы не знаем, что за человек, при всем своем гении, был Пушкин!
Возьмем советские времена. Советские критики объявляли черное – белым, «Поднятую целину» Шолохова – шедевром, а «Малую землю» Брежнева – «шедевром шедевров». А про Ильфа и Петрова ничего не писали, а ведь «Двенадцать стульев» занимают первую строчку в рейтинге цитирования в русской литературе XX века. Им не было посвящено ни одного серьезного литературоведческого исследования.
А номер второй – «Трудно быть богом» братьев Стругацких, на которых критика смотрела свысока: мол, фантастика, она и есть фантастика. И только номер третий – это «Мастер и Маргарита» Булгакова.
Я с середины 70-х годов любил и высоко ценил Владимира Маканина, у него выходила замечательная парадоксальная короткая проза. Критики просто не знали, что об его парадоксальности сказать. Вот о Трифонове знали: картина русской городской интеллигенции. И о Белове знали, и о Тендрякове, и о Распутине. А я читал «Живи и помни» Распутина, и мне было стыдно. Дезертир стал в унисон с волком выть на луну. Ну такой лобовик идет безобразный. Нэ можно ж так, хлопцы┘ И вот только когда Маканин стал печататься в толстых журналах, критика стала писать, что он хороший писатель, но чем именно хорош, критика так и не прорюхала.
В результате я не могу назвать ни одной литературной статьи, о которой я могу сказать: вот какой умный человек этот критик, дал бритвенный срез, показал, что же было сделано. Вообще, перефразируя Уайльда, можно сказать примерно следующее: на свете не было, пожалуй, писателя, которому критик помог бы написать книгу лучше, зато было очень много писателей, которым критики отравили жизнь.
– Так почему же литературная критика продолжает существовать?
– Критика объективно существует по двум причинам. Во-первых, люди занимаются всеми занятиями, которые только могут измыслить, и любое из них находит хоть какой-то спрос. Во-вторых, людям, чтобы из себя как из монад образовывать социум, необходимы системообразующие ценности. К числу системообразующих ценностей относятся и единые взгляды в эстетической сфере. Все болеют за «Спартак», все читают Дэна Брауна, Пушкин – наше все и т.д. Критика работает на то, чтобы у всех было более-менее единое мнение.
– Если позволите, я приму на себя роль вашего оппонента и предложу свою апологию литературной критики. Писатель – это человек синтетического, правополушарного мышления. Критик – аналитического, левополушарного. Он пытается перевести идеи, высказанные писателем, с языка образов на язык понятий. Литературная критика – это как раз то, что находится между литературой и философией, прослойка между ними. Благодаря критикам образы переводятся в понятия и наоборот. Таким образом идет взаимообмен между двумя областями. Взаимообогащение.
– Я думаю, что теоретически дело должно обстоять именно так, как вы говорите. Критик – транслятор, объяснятель, интерпретатор, пониматель, растолковыватель, который более образован, чем читатель, и занимается раскодированием символики. Но почему же они не справляются со своей работой? Почему такие глупые? Каким образом критики не въехали в то, как хорошо писал Лермонтов? Насколько блестящие мыслители и стилисты Стругацкие, которые «Хищные вещи века» написали 45 лет назад, в 1963 году! Почему пропустили Маканина? Почему они писали про Распутина, а тех, кто писал лучше него, они не понимали? У меня не к ним претензия, что они есть, а та претензия, что они есть с очень низким КПД, а то и просто отрицательным.
– Вы говорили, что задача критики в том, чтобы выработать единые взгляды в эстетической сфере. А мое субъективное впечатление совершенно другое. По-моему, наоборот, критики вообще ни по одному вопросу сойтись не могут. Невозможно вообразить такого литературно-критического суждения, сколь угодно абсурдного, которое не было бы на полном серьезе высказано одним из критиков. В самом деле, что общего между Владимиром Бондаренко и Натальей Ивановой?
– Объясняю. Я только вчера участвовал в одной теледискуссии по проблеме эвтаназии. Нас с одной стороны стояло трое, с другой стороны – тоже трое, люди разных профессий: юристы, доктора наук, политики. Я не могу поверить, что они говорили искренне. Такое ощущение, что им велели категорически отстаивать свою точку зрения, не идя ни на какие компромиссы. Вот они ее и отстаивают.
Людям свойственна большая нечестность перед самим собой, а кроме того, им свойственны групповое мышление и групповые пристрастия. Критики делятся на ряд групп и кланов, и каждый клан объявляет одних писателей гениями, а другие кланы их или отрицают полностью, или признают некоторую талантливость, но с уничижительными оговорками. Это происходит оттого, что критики не имеют внутренней задачи быть честными перед самими собой, внутренней добросовестности, желания разобраться во всем. У них есть естественное стремление как можно более самоутвердиться и самореализоваться. Таким образом, на подсознательном уровне критик в первую очередь озабочен не тем, чтобы правильно и глубоко проанализировать произведение, но тем, чтобы явить максимум собственного блеска при анализе этого произведения. В результате имеем то, что имеем.
– Вы говорили, что критик не способен к творческому кипению, а каким образом вы приходите в это состояние? Я знаю, кто-то трубку курит, кто-то бухает...
– Это напоминает спортивные тренировки, где первые 40 минут идут на разогрев мышц, связок, суставов. А после этого можно работать без травм. Точно так же когда садишься за стол, если работаешь регулярно, каждый день, то есть рефлексы и навыки поставлены, первые 40 минут уходит на разогрев, а потом дело идет легче, как бы само собой. Бывают и озарения. Что-то приходит во время купания, что-то во время курения в тамбуре. В этом состоянии за час может получиться больше – и лучше! – чем потом за неделю.
Примерно так у меня получился рассказ «Колечко». Я в это время писал совсем другой рассказ. Пришлось прервать работу, и в первую ночь я написал половину рассказа, а во вторую – закончил его.
┘Но первый опыт творчества был тяжел! Когда я решил писать постоянно, то в первое время у меня ни-че-го не получалось┘
– Вы сразу доводите начатую вещь до конца или бывает, что откладываете работу, переключаетесь на что-то другое?
– Нет, когда я чем-то занимаюсь, все остальное приводит в дикое раздражение. Оставшееся от работы время хочется сидеть в кресле и смотреть боевики по телевизору или обжираться пряниками. Казалось бы, что стоит позвонить по телефону и пять минут с кем-то поговорить? Ан нет. Сил не остается, и месяцами откладываешь все другие дела.
– А когда вы работаете – с утра или с вечера?
– Я, наверное, сова, поэтому лучше всего начинать в пятом часу, особенно зимой, в сумерки. Это один вариант. А второй вариант – садиться писать с утра, желательно весной или летом в солнечную погоду, но для этого надо более-менее выспаться и твердо знать, что ты будешь писать. Всю жизнь я работал на чае и папиросах, а когда ленинградский «Беломор» фабрики им. Урицкого стал набиваться мерзким кубинским табаком, то перешел на сигареты.
– А алкоголь пьете?
– Во время работы – категорически нет! 50 граммов водки не позволяют на завтра собрать мозги в точку, дотянуться до собственной планки. А так как все. Выпиваю по случаю. Когда устал, холодная сырая погода, целый день ничего не ел, то что же в этом плохого? И какой нормальный человек не захочет стопку под тарелку борща?
– Вот вы говорили, что полнообъемный садизм не присущ большинству людей. А мазохизм? Достоевский, например, считал, что страдание есть «коренная потребность русского народа». Может быть, это ключ к происходящему с нами?
– Я не думаю, чтобы по своему психологическому устройству русский человек отличался от других людей. Я думаю, что такое представление русских о себе было в огромной мере благодаря геополитической замкнутости, зажатости между Востоком и Западом. Мы были сами по себе, и поэтому все, что происходило с нами, полагали очень особым и специфическим. Не русские придумали страдание или воровство. Разумеется, в каждом человеке есть зерна всего, и садизма в том числе, это потому что человек руководствуется тем, что я назвал тягой или потребностью в оптимальных максимальных ощущениях, ибо эти ощущения и есть человеческая жизнь на субъективно воспринимаемом уровне. К этим ощущениям относятся и страдания, и счастье, сильные эмоции и в положительной, и отрицательной половине системы координат. Но когда у нас стали огромными тиражами издавать де Сада и писать в предисловиях, что-де вот за то, что он показывал, каков человек на самом деле, его и упекли в психушку и т.д. Это, разумеется, глупость. Чтобы человек вскрикивал от радости, разрезая на куски собственную мать┘ – ну, позвольте, каждый из нас в душе Чикатило, что ль?
– Может быть, у русского человека сам диапазон между страданием и счастьем, как говорят музыканты, на несколько октав шире, чем у других людей?
– Знаете, такое ощущение иногда создается. Как кто-то сказал, в русском человеке всего немножко слишком много. Если судить по российской истории последних веков, то очень может быть, что и так.
В разные годы мне доводилось с разными ребятами работать разные работы. И попадали люди, диапазон ощущений которых был необыкновенно широк. В скотских условиях, в первобытной скудости, при чудовищно тяжелой работе – только выматерится, перекурит и дальше упирается спокойно. А можно достать выпивку – забудет же обо всем и пропьет все результаты собственной работы. А бывали команды, где ребята работали настолько эффективно и по уму, что сделали бы честь любой Германии или Швеции.
– Если бы вы имели возможность вернуться в прошлое, чтобы вы в своей жизни скорректировали?
– Понятно, что я не в первый раз об этом думаю. И каждый раз мысленно ставлю свечку Парню Наверху. Пожалуй, что ничего.














.jpg)