 Из зарисовок к спектаклю в Венском театре. Иллюстрация из книги
Из зарисовок к спектаклю в Венском театре. Иллюстрация из книги
То, что Станиславский, планируя ту или другую работу, во время репетиций делал какие-то наброски карандашом, не было тайной. Карандаш в режиссерской руке – предмет почти что традиционный, часто обязательный. Карандаши любил Завадский, Михаил Захарович Левитин, кажется, шага не делает без карандаша в руке, Райхельгауз часто тоже пишет карандашом, а в минуты гнева – ломает их, зажав между пальцев. Но так счастливо вышло – несколько лет тому назад в режиссерской библиотеке Станиславского были найдены тетради, в которых – большое количество рисунков, эскизов. Вскоре многие можно было увидеть на выставке в Доме-музее Станиславского в Леонтьевском.
Нынешнее издание, как говорят в таких случаях, – по-своему уникальное. Комментарии – директора мхатовского музея Марфы Бубновой. Но первое, что, конечно, чувствуют пальцы, когда берешь в руки этот том продолговатой формы старинного альбома для эскизов, – его странная ребристая форма, как будто занавес «глубокими морщинами волнует». Обложка твердая и одновременно – невероятно гибкая, складчатая (дизайн Бориса Трофимова).

|
|
Неизвестный Станиславский. Материалы к постановкам, мотивы декораций, эскизы костюмов, гримы. – М.: БОСЛЕН, 2018. – 228 с. |
Невозможно поверить, но Станиславский, как выяснилось, делал эскизы декораций и костюмов практически ко всем спектаклям. Театр, в том числе и от лица Станиславского, обращался к Симову, Егорову, Бенуа, Рериху, другим выдающимся театральным и просто к выдающимся художникам того времени, а Станиславский, получается, тайком параллельно делал ту же работу, представляя идеальные декорации, костюмы своих героев, других персонажей, сочиняя свой идеальный театр. Что это? Неуверенность в себе? Гений, неуверенный в себе? Разве такое бывает? Но неуверенность сопутствовала Станиславскому во всех его актерских опытах, это известно. И когда его не менее знаменитые партнеры по сцене за глаза говорили, что большому актеру Система ни к чему, а Станиславскому понадобилась, потому что он великим актером не был, – они, конечно, ошибались. Но ту же мысль вернее было бы пересказать задом наперед: Станиславский, будучи как раз великим актером, но преследуемый неуверенностью, Систему «выдумал», чтобы эту неуверенность побороть. Перебороть неуверенность в своих опытах в изобразительном искусстве он, к сожалению, так и не сумел, так что для многих, даже хорошо знавших Константина Сергеевича, эта часть его жизни так и осталась тайной. А нам открывается сейчас, спустя 80 лет после смерти Станиславского.
Что в этих рисунках интересного, помимо известного всем исследователям блестящего знания эпохи, всех исторических реалий, истории костюма? Конечно, детализация. То скрупулезное внимание к детали характера, о чем мы знаем из репетиций, из всего того, что мы знаем о Станиславском-режиссере, – все это так же явно читается и в его рисунках. Складки платья, отдельно – рукав, отдельно – орнамент ткани или декорации. Но еще – поскольку все это – режиссерские наброски, или вернее назвать их рисунками, эскизами режиссера, – рядом с платьем, наброшенным на персонажа, рядом – костюм на герое с уже прорисованным лицом и на этом лице – печать характера. Эмоция, интонация.
Планы, планировки, которым сопутствуют очень аккуратно, к месту подобранные цитаты из писем, из записных книжек Станиславского (свидетельствующие в том числе и о той самой неуверенности в своей игре) и – прямо противоположные оценки игры Станиславского современниками, свидетелями его актерских триумфов. Портреты, автопортреты – почти всегда применительно к той или другой роли, а значит – с попытками увидеть себя максимально объективно со стороны и найти взгляд, найти эмоцию, найти грим, пластику, мимику: какие брови – линия, ширина, изгиб, дальше – борода… Какая? От Чехова – к Тригорину. Интерес к портрету – знак времени, примерно в середине альбома помещена цитата о знаменитой выставке русских портретов в Таврическом дворце 1905 года, куда Станиславский ездил не один раз.
А под конец, что, может, не менее ценно в контексте уже, возможно, не изобразительного мастерства, а истории театра, которая в этой книге все-таки имеет сослагательное наклонение, – это своего рода изобразительно-театральные фантазии Станиславского, который во время читки «Бега» набрасывает что-то карандашом и в роли Голубкова, кажется, изображает себя.




























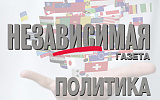

комментарии(0)