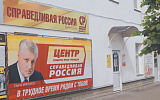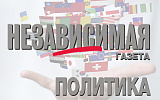Франсиско де Гойя. Точильщик ножей. 1790. Музей изобразительных искусств, Будапешт
Франсиско де Гойя. Точильщик ножей. 1790. Музей изобразительных искусств, Будапешт
В начале книги «Con amore. Этюды о Мандельштаме» есть статья о работе над многострадальной «Мандельштамовской энциклопедией», которая все никак не выйдет в свет. Думается, компендиум многолетнего труда Павла Нерлера вполне можно назвать «энциклопедией». В «Этюдах» есть почти все, что нужно знать среднему русскому читателю о Мандельштаме, и многое сверх того.
Книга Нерлера интересна не только глубоким постижением поэзии и судьбы Осипа Мандельштама, но и самораскрытием автора, отнюдь не профессионального литературоведа, но посвятившего жизнь изучению биографии и творчества поэта. В этом феномене угадываются и личное потрясение от стихов Мандельштама, и важный аспект жизни либеральной интеллигенции 60–80-х с ее культом трагически сгинувшего поэта. Павел Нерлер пишет: «Шестидесятники – наследники того четвертого сословья, которому присягал Мандельштам, – с восторгом и радостью окунулись в мир его стихов. Физики в этом не отличались от лириков: первый мандельштамовский вечер в СССР в МГУ в 1965-м организовали аккурат математики, то есть «физики». Стогны обернулись кухнями, где и физики. И лирики взахлеб читали и на машинках перетюкивали друг для друга московские и воронежские стихи».
(Позволю себе и личное отступление – моя мама, учившаяся в конце 60-х в Москве в Горном институте, вспоминает, что и у них, студентов технического вуза, большинство из которых составляли провинциалы, ходили по рукам рукописные сборники Мандельштама – едва ли не единственный самиздат, с которым ей пришлось соприкоснуться в жизни.)
Книга Нерлера состоит из нескольких разделов, названия некоторых из них говорят сами за себя – «Мандельштамовские места», «Современники и современницы», в которые вошли тексты автора, накопившиеся за много лет. Значительное место уделено истории издательских проектов, смешных и не очень столкновений относительно наследия поэта, деятельности комиссии и общества имени Мандельштама.
Поскольку пухлый том в 800 с лишним страниц слишком разнообразен по своему содержанию, поэтому позволю себе остановиться лишь на некоторых местах, особенно примечательных для меня. Во-первых, глава «В одиннадцатом бараке: последние одиннадцать недель жизни Осипа Мандельштама (попытка реконструкции)». Это потрясающий отчет-расследование об умирании в лагере еще совсем не старого поэта. Нерлеру удалось буквально по дням и даже, в конце, по часам реконструировать обстоятельства последних месяцев жизни поэта в заключении – и это спустя много десятилетий, при минимуме свидетелей и свидетельств. Подобную работу трудно назвать иначе как исследовательским подвигом. «В одиннадцатом бараке» написано скупым и неэмоциональным языком, отчего общее впечатление зловещей предрешенности ранней и мучительной кончины только усиливается. (Фото Мандельштама в заключении невольно заставляют вспомнить о Бродском, оба поэта стареть начали очень рано и резко.)
Во-вторых, главки (в основном в разделе «Солнечная фуга»), где рассматривается влияние на творчество Мандельштама тех или иных культур и писателей. Особенно много у Нерлера написано по теме «Мандельштам и Германия». Но вот тут бы мне хотелось поспорить. Представляется, что поэт плохо знал немецкую литературу (поэзию, в частности). И здесь Мандельштам выступает как типичный представитель русского интеллигентного общества своего времени, который, как и все, изучал (и совсем неплохо) в гимназии немецкий язык, но это знание вовсе не служило путеводителем в чужой словесности.
В «Шуме времени» Мандельштам вспоминает о книжном шкафе у родителей – «Шиллер, Гете, Кернер и Шекспир по-немецки», типичный набор, где третьестепенный Кернер соседствует с подлинными гениями, без всякого осознания их несовместимости. Для Мандельштама, как и для типичного русского читателя, не существовало Гельдердина, Мерике, Фонтане. Клейста он знал только Христиана – второстепенного поэта XVIII века. О Гете Мандельштам отделывался банальностями, чувствуется, что его он читал поверхностно. Любопытный момент, Надежда Мандельштам упоминает в своих воспоминаниях про некоего немецкого поэта «Клопфштока» (правильно – Клопшток). И этот же «Клопфшток» всплывает в книге Нерлера (упущение редакторов издательства НЛО). Так что толстовский Карл Иваныч трудился в России в известном смысле напрасно.
«Разговор о Данте» раскрывает нам самого Мандельштама, его понимание языка и поэзии, но мало что говорит о Данте. То же самое касательно поездок Мандельштама на юг, отраженных в «Путешествии в Армению». Он не знал ни армянской, ни грузинской литературы, не интересовался ими, и Кавказ у него лишь повод для стилистических упражнений, замечательных своим русским языком, – «Язык абхазцев мощен и полногласен, но изобилует верхне- и нижнегортанными слитными звуками, затрудняющими произношение; можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами». Любопытно сравнить «Путешествие» с книгой Василия Гроссмана «Добро вам» – путевыми заметками о той же Армении. Там, при всей литературной незначительности автора сравнительно с Мандельштамом, можно узнать собственно про Армению и ее культуру гораздо больше – «одна интеллигентная женщина, говоря о поэте Туманяне, убеждала меня, что гений Туманяна выше гения Пушкина». Такие вот замечания цепляют и заставляют размышлять. Но повторюсь, Мандельштам – сын своего времени, и какая-нибудь бойко строчащая и про Гете, и про Армению Шагинян была ничуть не эрудированнее его, хоть и вращалась в более утонченных дореволюционных салонах.
Хоть Павел Нерлер и пишет о «незаурядном политическом темпераменте» Мандельштама, книге остро не хватает главы о политических взглядах поэта, его отношении к революции и большевизму. Обычно все сводится к эпиграмме про «кремлевского горца», из которой совершенно непонятно – как осознавал свою эпоху несчастный поэт, перемолотый ее жерновами.