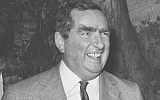Разные недобитки способны схорониться и под водой.
Виктор Васнецов. Подводный терем. 1884. Дом-музей В.М. Васнецова, Москва
Разные недобитки способны схорониться и под водой.
Виктор Васнецов. Подводный терем. 1884. Дом-музей В.М. Васнецова, Москва
«Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения», – пишет историк села Горюхина в известном сочинении Пушкина.
Вот и Россия без лучезарных образов будущего большую часть своей истории как-то обходилась. Скажем, доктрина старца Филофея «Москва – Третий Рим» явно искала идеалы и ориентиры в прошлом. А декларация генерала Бенкендорфа «прошлое России великолепно, настоящее ее блистательно, будущее превосходит самые смелые ожидания», при всем зажигательном патриотизме никакой понятной программы не предлагала.
В ХХ столетии в СССР сделалось общепринятым учение Маркса и Энгельса о коммунизме, развивающее оптимистическую веру Века Просвещения в неизбежный прогресс человечества. Все беды и лишения советского народа оправдывались самоотверженной работой для будущих поколений. Но внятных очертаний и этот образ будущего никак не желал принимать. Скажем, Маркс и Энгельс предрекали отмирание государства при коммунизме, но на практике государственные структуры СССР от пятилетки к пятилетке лишь укреплялись.
О близости реального коммунизма заговорили вслух после смерти Сталина – на фоне эйфории от Победы, победной поступи социализма по планете, оттепели во внутренней политике и успехов народного хозяйства (от послевоенного восстановления до космических полетов). Прожекты близкого коммунизма рисовались и в партийных документах, и в трудах идеологов (к примеру, академика Струмилина, корифея советского планирования, проронившего как-то афоризм «Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие»). Но наиболее осязательным образом мечты о коммунизме реализовались в сочинениях советских фантастов.
Будущее в прошедшем
Большевики числили среди своих предшественников «социалистов-утопистов», от Томаса Мора и Фомы Кампанеллы до графа де Сен-Симона и Шарля Фурье. И коммунистические утопии регулярно сочинялись в России с начала ХХ века («Красная Звезда» Богданова, 1908; «Страна Гонгури» Итина, 1922; «Страна счастливых» Яна Ларри, 1931, и многие другие). Соборно-коллективистский характер носили и видения космистов Федорова и Циолковского (в СССР они замалчивались из-за несоответствий марксистской доктрине, но нашли яркое преломление в поэмах Заболоцкого и прозе Платонова).
При этом символическое пространство сталинской империи тяготело к волшебной сказке. Сказка – самый доступный образ утопии. Максим Горький, один из главных идеологов, с удовольствием отмечал в советской действительности сказочные черты, приветствовал народных сказителей вроде Марфы Крюковой и Джамбула Джабаева, поощрял лакировочное искусство Палеха и Мстёры. А советские фантасты эту сказку, как волшебную печь, пытались водрузить на научные салазки. Иначе говоря, литературное будущее искали в фольклорном прошлом, только неимоверно усовершенствованном в техническом отношении.
Обзор этих фантазмов никак не минует романа-манифеста Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» (1957). Нельзя пройти молчанием и творчество ранних Стругацких, вскоре затмивших Ефремова по популярности и влиятельности. Следует рассмотреть и «Незнайку в Солнечном городе» (1958) Николая Носова – вторую часть его сказочной трилогии. Сочинение, с одной стороны, чрезвычайно емкое, а с другой – очень откровенное, где черты коммунистического проекта лежат прямо на поверхности.
Но начнем мы с книги не столь знаменитой: с романа для подростков «Арктания» (1938) пера Георгия Гребнёва. Потому что в этой книге, как в эмбрионе, уже содержатся многие линии, темы и мотивы советской коммунистической утопии.
Автор и его книга
Григорий Гребнёв (урожденный Грибоносов) родился в Одессе в семье кузнеца. С 14 лет работал подручным котельщика на судоверфи. Участник Гражданской войны. В Одессе посещал пролетарский литературный кружок «Потоки Октября» п/у Эдуарда Багрицкого.
В 1924 году перебрался в Москву, работал в газете «Гудок», причем на знаменитой четвертой полосе – рядом с Олешей, Булгаковым, Ильфом. Хотя среди участников «юго-западной школы» (группы одесситов, разбавленных киевлянами) если и числился, то где-то на заднем плане.
С 1930 года Гребнёв публиковал рассказы. Они были замечены Горьким и отмечены Паустовским, обнаружившим в них влияние О. Генри. «Арктания» была написана в 1937-м, печаталась в журнале «Пионер», вскоре вышла отдельным изданием. Книга вызвала дискуссии в журнале «Детская литература» и в газете «Пионерская правда»; среди благожелательных, но придирчивых критиков были Александр Беляев и Виктор Шкловский.
Задним числом роман Гребнёва неплохо вписывается, с одной стороны, в ряд фантастических книг об освоении Арктики («Под небом Арктики» Александра Беляева, 1938; «Арктический мост» Александра Казанцева, 1940; «Изгнание владыки» Георгия Адамова, 1941–1946). А с другой стороны – в ряд футуристических опусов на тему «если завтра война» («Дорога на Океан» Леонида Леонова, 1935; «На Востоке» Петра Павленко, 1937; «Разгром фашистской эскадры» Георгия Байдукова, 1938; «Первый удар» Николая Шпанова, 1939). Но по части дерзкой фантазии «Арктания» выламывается из всех списков.
После войны Гребнёв переработал «Арктанию» с учетом новых геополитических реалий в повесть «Тайна подводной скалы» (1955), но переделка успеха не имела. Последнюю незаконченную повесть Гребнёва «Мир иной» (1960) дописал и опубликовал Аркадий Стругацкий. А его брат Борис называл «Арктанию» одной из лучших книг советской научной фантастики (НФ).
Сюжет
Действие происходит в коммунистическом будущем, причем недалеком: совсем недавно были разгромлены враги, и герои имеют дело с последними фашистскими недобитками.
Над Северным полюсом висит в воздухе научная станция Арктания в виде огромного цеппелина (нечто вроде космической станции на геостационарной орбите, но у Гребнёва в космос еще не летают). Тринадцатилетний Юра Ветлугин, сын начальника станции, пропадает на личном автожире (род вертолета) во время пурги. Полярники находят тело мальчика в ледяной глыбе. Профессор Британов, медик-чудодей, оживляет мертвеца – но это совсем другой мальчик. Это индеец из боливийского племени курунга, переселенного на дно Ледовитого океана в качестве рабов.
Юный индеец рассказывает, что невдалеке от полюса устроили свое подводное логово недобитые крестовики – усовершенствованные фашисты клерикального пошиба. Зампредседателя Всемирного Совета, негритянский коммунист-адмирал по кличке Бронзовый Джо обращается к человечеству с воззванием. Большевики формируют Чрезвычайную Полярную Комиссию.
Под ногами путается карлик-шпион, мимикрирующий под журналиста, но его быстро изобличают (хотя охраняют из рук вон плохо, и он дважды пытается бежать). Советские полярники совершают партизанскую вылазку во вражеское логово. А геофизики тем временем придумывают способ поднять это гнездо на поверхность с помощью радиоактивного взрыва.
В небольшой роман для подростков автор умудряется упаковать целый ворох мифологем. Летающая Лапута, зловещая Гиперборея, подводная Атлантида. Новые крестоносцы и оживший Лазарь. Роковая фашистская красотка и беспощадная большевистская валькирия. Новый капитан Немо и новый подводный Маугли. Геркулесовы столпы и плавучие острова. Новый Гулливер – гигантский стереоскопический призрак Большого Брата (в некотором роде воплощенный Призрак Коммунизма). Радий, который исцеляет мертвых и двигает горы. В общем, красота.

|
|
Детская пресса была полна сюжетами о пионерах. Иван Куликов. Пионеры. 1929. Муромский историко-художественный музей, Владимирская обл. |
Следуя утопической традиции, мир «Арктании» обнаруживает и некоторые черты антиутопии, особенно в ретроспективных описаниях.
Вождь крестовиков, «новый апостол» Петер Шайно, создает свое фашистское государство на острове Гренландия, на минуточку, купленном у Дании (хорошая фантастика всегда содержит нечаянные пророчества). Воздушная армада крестовиков атакует северные границы СССР, но терпит поражение. Тогда разгромленный папа Шайно перемещает свою базу на дно океана где-то у берегов Шпицбергена.
Движение крестовиков имеет международный и экуменический характер – это нечто вроде фашистско-клерикального интернационала. Разведкой и шпионажем здесь ведает «красивая немка», белокурая бестия Лилиан. Воздушной епархией – француз Кошонье. А субмаринами командует «военно-морской архиепископ» японец Курода.
Щупальца у фашистов глобальные, а размах планетарный: они в состоянии переселить в свой подводный город целое племя из боливийской сельвы. Крестовики орудуют отравляющими газами, владеют совершенными субмаринами, пользуются шпионскими штучками (в отличие от доверчивых большевиков, прозевавших у себя под носом вражеское логово). Но противостоять чудесному радию фашисты еще не умеют – и коммунисты заставляют их базу всплыть со дна морского, за ушко да на солнышко.
Тут стоит отметить, что корифеи советской фантастики после утопий непременно обращались к антиутопиям. Ефремов после возвышенной «Туманности Андромеды» сочинил мрачный «Час Быка». У Носова за «Незнайкой в Солнечном городе» следует «Незнайка на Луне». А у Стругацких блаженный мир Полудня переломился примерно на «Улитке на склоне» (1965). Но в «Арктании» утопия и антиутопия еще нераздельны – смешаны в одном флаконе.
Выдумка Гребнёва избыточно щедра. Шкловский на страницах «Пионерской правды» сокрушается: «Читается книга легко, но она слишком переполнена фантастикой»; «я не буду перечислять всего фантастического реквизита, но считаю, что его слишком много»; «роман переполнен событиями как сон».
Свифт и Жюль Верн, напоминает Шкловский, обычно делают в своих книгах одно изначальное фантастическое допущение – а затем действие развивается реалистически, с поправкой на предложенные обстоятельства. Интересно, что в «большой» словесности Шкловский предпочитал исследовать приемы литературных революционеров – Лоренса Стерна и Льва Толстого. А в литературе массовой он почему-то рекомендует следовать готовым шаблонам.
Мрачная антиутопия земноводных крестовиков рисуется в романе скороговоркой. Но и счастливые будни коммунизма толком не описаны. Ясно, что земляне уже не испытывают больших материальных проблем: детей из Африки возят на каникулах на экскурсию в Арктику и наоборот. Детям дарят вертолеты вместо велосипедов, пенсионеры-путешественники устраивают танцы на полюсе. Хотя нет предела совершенству, и коммунисты как раз собираются перегородить Гибралтар огромной плотиной, чтобы осушить Средиземное море и получить даровую энергию для обводнения Сахары.
Черты коммунистического строя приходится реконструировать из отдельных деталей. Есть детали технические: феерические иллюзионы на митингах, воздушные поезда в стратосфере, ледовые танки-амфибии и непременные самодвижущиеся дороги.
Есть детали общественно-бытовые. Герои ведут частные расследования при благодушном попустительстве «органов». В арктической столице Северограде нет тюрьмы, и задержанного лазутчика содержат в гостинице. Мать похищенного Юры не желает менять сына на этого шпиона, и муж гордится ее выбором. Ровно та же гордость приписывала Сталину апокрифическую фразу «Я солдата на фельдмаршала не меняю».
Вездесущие пионеры
«Пионер, по-видимому, становится почти необходимым героем наших научно-фантастических романов. Это естественно и закономерно: наши дети принимают живейшее участие в общественной жизни и проявляют огромный интерес к научным знаниям. Но когда встречаешь в романе пионера, невольно охватывает опасение: не собьется ли автор на уже создающийся трафарет», – писал в рецензии на «Арктанию» Александр Беляев.
Ничего удивительного: даже если отвлечься от НФ, примерно в те же годы появились «Судьба барабанщика» и «Дым в лесу» Гайдара, «Черемыш – брат героя» Кассиля, «Старик Хоттабыч» Лагина, где пионеры – главные герои. А детская пресса была полна сюжетами о пионерах-дозорниках (последователях Павлика Морозова) и пионерах-контрразведчиках (изобличавших шпионов и диверсантов), о юных друзьях милиции, воздушного флота и служебного собаководства.
Между прочим, в «Арктании» выведены сразу четыре пары отцов и детей. И порой отец и сын служат противоборствующим режимам (привет пионеру Павлику).
Правда, подросток Юра почти сразу исчезает со страниц романа. И возвращается только в конце, когда его вызволяют из логова фашистов. Но Юру вскоре замещает его размороженный сверстник индеец Рума, стремительно впитывающий пионерские доблести. А также его болтливая подружка Ася, стремительно обучающая мальчика русскому языку. Так что «Арктания» еще и роман воспитания.
Тут Гребнёв также предвосхищает признанных корифеев. В «Туманности Андромеды» воспитанию новых поколений посвящена отдельная глава. Незнайка и его окружение – вечные подростки. У Стругацких проблема воспитания – одна из центральных («Стажеры», «Возвращение», «Малыш», «Гадкие лебеди», «Парень из преисподней»).
Сказочная подоплека
Владимир Фалеев в послесловии к переизданию «Арктании» (1991) пишет, что во времена Гребнёва «вера в науку и в ее щедрые плоды была беспредельна… Исследования Арктики группой Папанина или перелет Чкалова через Северный полюс подавались не как научные события, а как сказочные явления, сулящие чуть ли не манну небесную».
Так наука подменяется магией – причем в самом примитивном, наивно-фольклорном вкусе. Кстати, манна небесная в романе Гребнёва упоминается: это «съедобный мох-лишайник, произрастающий в Палестине, продуктом которого является нитроманнит, одно из сильнейших взрывчатых веществ».
В «Арктании» нетрудно обнаружить фольклорные мотивы и сказочные архетипы. Черная рука из детских страшилок. Ковер-самолет и толкучие горы. Волшебные помощники (подводный скафандр сам движется и работает, человек внутри него только отдает команды). И еще много чего по мелочи: «праща Давида» (электронный пулемет), «сказочный снаряд тератом», преобразующий морское дно и т.п.
Важен мотив подкидыша/найденыша/подменыша (индеец Рума). С одной стороны, появление подменыша – происки нечистой силы. С другой стороны, подкидыш может иметь и божественное происхождение. А обычный сказочный герой – сирота, которому нужно совершить ряд подвигов, чтобы посрамить своих обидчиков.
Подводная база крестовиков напоминает о Морском царе и приключениях былинного Садко. При этом вождь крестовиков по нраву и повадкам похож не столько на капитана Немо, сколько на Кощея Бессмертного (похитителя девиц) или на Синюю Бороду (похитителя детей).
Есть здесь и мотивы Голого короля (разоблаченного папы Шайно) и Снежной королевы (демонической немки Лилиан). Королева эта к тому же мнимая – еще один вариант призрака, но другого порядка. Тем не менее ситуация Юры и Аси отчасти повторяет ситуацию Кая и Герды.
Старик Андрейчик, дед похищенного Юры, обладатель длинной белой бороды, с одной стороны, напоминает Деда Мороза. А с другой – грозного сказочного Морозку (в качестве мстителя и дознавателя).
Вообще-то всякий соцреалистический роман, не обязательно в жанре НФ, несет родовые черты сказки. Но далеко не все они столь ярко написаны, чтобы анализ их оказался интересным. «Арктания» – предмет в этом смысле весьма благодатный.