
|
|
Было страшно брать в руки газеты. Борис Кустодиев. Подписывайтесь на 1927 год на ежедневную газету. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». 1926. Русский музей |
28 января 1949 года в «Правде» вышла редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», которую все причастные к театру восприняли как установочную: «Правда» была центральным органом ЦК ВКП(б), главной газетой страны, редакционные статьи воспринимались как руководство к действию. Это было продолжение кампании по «борьбе с космополитизмом», начавшейся годом ранее и направленной против той части интеллигенции, которая после победы над Германией наивно надеялась на ослабление жесткого идеологического контроля в литературе и искусстве.
Сталин эти ожидания пресек. Грубо, жестко и бескомпромиссно. В начале 1949-го кампания раскрутилась и докатилась до театра – главная газета страны обрушилась на «театральных критиков-антипатриотов» с непатриотическими фамилиями, включив в эту «зловредную группу» армянина Георгия Бояджиева и русского Леонида Малюгина.
Фигуранты («последыши буржуазного эстетства»)
Борцы с «идеологической заразой» никогда не стеснялись в выражениях, следуя полемическим урокам Ленина (о буржуазных интеллигентах: «На деле это не мозг, а... », о Троцком: «политическая проститутка», ну и т.д. и т.п.).
Орган ЦК ВКП(б) бил наотмашь и, если продолжать в той же стилистике, «пригвождал к позорному столбу» всех, кто посмел поднять руку на пьесы Максима Горького («Мещане»), Константина Тренева («Любовь Яровая»), Николая Вирты («Хлеб наш насущный») и других – «гурвичи», «юзовские» и «борщаговские» характеризовались как «последыши буржуазного эстетства», которые «утратили свою ответственность перед народом» и которым «чуждо чувство национальной советской гордости».
Какое право, вопрошала газета, имеет критик Юзовский называть основателя метода соцреализма «публицистом», а другой критик, Гурвич, «злонамеренно противопоставлять» передовую советскую драматургию русской классике, тем самым пытаясь «опорочить» ее? И продолжала: а чего стоят нападки Борщаговского, который весь свой «антипатриотический пыл направил на пьесу А. Софронова «Московский характер» и на Малый театр, поставивший эту пьесу»? Или попреки Малюгина в адрес «таких глубоко патриотических произведений, заслуживших широкое признание народа, как «Великая сила» Б. Ромашова, «В одном городе» того же А. Софронова»?
«Правда» разоблачала: «Особенно уютно чувствовали себя такого рода критики в затхлой атмосфере объединения театральных критиков при ВТО – Всероссийском театральном обществе (председателем бюро объединения был Бояджиев. – Г.Е.), комиссии Союза писателей по драматургии (где председательствовал Крон. – Г.Е.). Там во всей неприглядности выворачивается изнанка тех, кто в иных местах выступает маскируясь, скрывая нередко порочное содержание своих высказываний за наукообразными завитушками, заумным языком, нарочитыми выкрутасами, потребными лишь для того, чтобы затемнить существо дела».
«Правда» изобличала: «Шипя и злобствуя, пытаясь создать некое литературное подполье, они охаивали все лучшее, что появлялось в советской драматургии» и срывала маски: «Давно обанкротившиеся Юзовские и Гурвичи «молчали», за них выступали Борщаговские и другие, проникавшие из специальной искусствоведческой печати в общую и прикрывавшие громкими фразами все ту же неприязнь к воплощению в художественных образах идей советского патриотизма». «Правда» обвиняла: критики-«антипатриоты» «пытаются дискредитировать передовые явления нашей литературы и искусства, яростно обрушиваясь именно на патриотические, политически целеустремленные произведения под предлогом их якобы художественного несовершенства».
В статье было много идеологических штампов и клише, присущих пропагандистскому стилю 40-х годов, но «группа антипатриотов», о которой шла речь, сразу поняла, чем грозные слова «в театральной критике сложилась антипатриотическая группа последышей буржуазного эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах журнала «Театр» и газеты «Советское искусство», которая утратила «свою ответственность перед народом»; которая дискредитирует «передовые явления нашей литературы и искусства, яростно обрушиваясь именно на патриотические, политически целеустремленные произведения под предлогом их якобы художественного несовершенства» могут для них обернуться. Тем более что в редакционной статье подчеркивалось: «Мишенью их злобных и клеветнических выпадов были в особенности пьесы, удостоенные Сталинской премии».
Это был приговор. Замахнуться на пьесы, отмеченные премией имени вождя?
Кто писал (по указанию Сталина)
О том, кто был заказчиком этой статьи, напишет в 1963 году в книге «Люди. Годы. Жизнь» со ссылкой на генерального секретаря Союза советских писателей Илья Эренбург: «А.А. Фадеев говорил мне, что кампания против «группы антипатриотических критиков» была начата по указанию Сталина». Начальник всех советских писателей знал, о чем говорил: он принимал непосредственное участие в заседании Оргбюро ЦК 24 января 1949 года, на котором и было принято решение о выступлении «Правды» с редакционной статьей.
В 1991 году Александр Борщаговский в книге воспоминаний «Записки баловня судьбы» уточнит: у редакционной статьи «Правды» были два автора – генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей Александр Фадеев и главный пропагандист газеты, громивший всех и вся (Мандельштама в 1929-м, Шостаковича и художников Лебедева и Конашевича – в 1936-м, Пастернака – в 1958 году), Давид Заславский: «В тот день, когда состоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП(б), решившее нашу судьбу, Александру Фадееву и «Правде» было высочайше поручено выступить с принципиальной, установочной статьей. В ночном со мной разговоре К. Симонов связывал с авторством А. Фадеева надежду на сдержанность статьи – и, как показал номер газеты от 28 января 1949 года, ошибся».
«Хозяин» и «негры» («Вы просто завидуете моему успеху»)
В числе драматургов, на которых нападали «юзовские», «гурвичи» и «малюгины», был Анатолий Суров. В конце 1940-х годов его пьесы ставились в большинстве театров страны, не говоря уже о московских театрах: во МХАТе шел спектакль «Зеленая улица», в Театре им. Моссовета – «Обида», в Театре им. Ермоловой – «Далеко от Сталинграда».
Партия и вождь высоко оценили творчество члена партии с 1939 года, прошедшего «творческий» путь от скромного корреспондента газеты «Гудок» до ответственного секретаря «Комсомольской правды» и заместителя главного редактора журнала «Искусство», и дважды удостаивали его высшей премии в стране – Сталинской (правда, второй степени, но и она приносила большие деньги – премия составляла 50 000 руб. при средней зарплате инженера 600–700 руб., партия ценила «инженеров человеческих душ» значительно выше обычных) – в 1947 году за пьесу «Зеленая улица», в 1950-м – за пьесу «Рассвет над Москвой».
Но оказалось, что пьесы совсем не его, он их не писал, за него писали другие. Суров, рассказывает Юрий Нагибин в своей книге «Итальянская тетрадь», «будучи заведующим отделом рабочей молодежи в газете «Комсомольская правда», присвоил пьесу своего подчиненного А. Шейнина «Далеко от Сталинграда». Но разоблачен был только после смерти Сталина: «Обвинение в плагиате было брошено Сурову на большом писательском собрании. Суров высокомерно отвел упрек: «Вы просто завидуете моему успеху». Тогда один из «негров» Сурова, театральный критик и драматург Я. Варшавский, спросил его, откуда он взял фамилии персонажей своей последней пьесы. «Оттуда же, откуда я беру все, – прозвучал ответ. – Из головы и сердца». – «Нет, – сказал Варшавский, – это список жильцов моей коммунальной квартиры. Он вывешен на двери и указывает, кому сколько раз надо звонить».
Яков Варшавский знал, что говорил, это он, выгнанный из партии и изгнанный из всех редакций, лишенный работы, а значит, и средств к существованию, написал за Сурова пьесу «Рассвет над Москвой», которая шла на сцене Театра им. Моссовета. После него взял слово критик и сценарист Николай Оттен, который признался, что именно он, а не Суров, автор пьесы «Зеленая улица».
В середине 1950-х Борис Лавренев расскажет, что этот «драматург», самостоятельно не написавший за свою жизнь ни одной строки, «гнусно эксплуатируя чужой труд», выдавал «его за свой, обворовывая подлинных авторов «его» пьес на гонораре, получая за чужой труд Сталинские премии».
Ну, а теперь собственно о «неграх». Понятие «литературный негр» появилось во Франции (nègre littéraire) где-то в середине XIX века, когда популярным авторам не хватало сил (а иногда и идей – случай Дюма и драматурга Огюста Маке), чтобы объять необъятное – выпускать по нескольку романов в год, одновременно писать пьесы, статьи, очерки и т.д. и т.п. Суров был не первым, кто воспользовался услугами «литературных негров», но до Дюма ему было ох как далеко – во всех смыслах.
«С омерзением ложу…» (визит в ГИТИС)
На литературного афериста работало еще несколько литераторов, но «цимес» был в другом: антисемит Суров, нанимая писателей-евреев, которым некуда было деваться, и беззастенчиво пользуясь трудами «космополитов», грубо и развязно этих самых «космополитов» громил. Театровед Марианна Строева, в конце 1940-х учившаяся в аспирантуре ГИТИСа, вспоминала об одном визите лауреата в институт (Союз писателей постоянно присылал в институт некоторых идейных членов с целью показать истинное лицо профессоров, преподававших на разных кафедрах): «Суров… тяжело взбираясь на сцену в большом зале, хрипло выкрикивал угрюмо молчавшей студенческой толпе: «Я с омерзением ложу руки на эту кафедру, с которой вам читали лекции презренные космополиты!» Услышав «ложу», студенты и аспиранты потихоньку прятали улыбки: возражать неграмотному графоману было себе дороже.
Его старинной мебелью долбал… (конфликт хорошего с отличным)
На переломе 1940–1950-х в советской литературе в противовес русской классической господствовала «теория бесконфликтности»: теоретики от искусства утверждали, что в социалистическом обществе не может быть конфликтов, а если случаются, то это «конфликт хорошего с отличным». Однажды такой конфликт случился не в теории, а на практике. Не в учебнике литературы, а в известном всем москвичам писательском доме в Лаврушинском повстречались автор известного романа «Белая береза» Михаил Бубеннов и «автор» не менее известной пьесы «Большая судьба» Анатолий Суров. Мы не будем выяснять, кто у кого был в гостях, кто из этих совписов был «хорошим», кто «отличным». Все это не важно, важно, что из этой встречи вышло.
Оба испытывали, выразимся как можно мягче, неприязнь к людям, как писали советские газеты, «определенной национальности». Завязался разговор, путаный, бессвязный, оба изрядно заложили за воротник, и, как это обычно бывает, да еще у людей эмоциональных, вспыльчивых и горячих, слово за слово, обмен мнениями перешел в спор, а спор – в драку. Очевидно, для такого выяснения отношений места в квартире оказалось недостаточно, и два идейных борца за национальную чистоту писательских рядов выкатились из дома и продолжили выяснять, кто прав, а кто нет, на улице прямо перед Третьяковской галереей, которая находилась (и находится по сей день) как раз супротив писательского муравейника (как и Третьяковка, он находится на своем месте; кстати, это тот самый дом, в котором Маргарита в романе Булгакова с удовольствием разгромила квартиру критика Латунского, постоянно подвергавшего травле Мастера).
В неравной борьбе двух лауреатов Сталинской премии певец «Березы», лауреат премии первой степени за эту самую «Березу», победил певца «Зеленой улицы» и «Рассвета над Москвой» – лауреата второй, но зато сразу двух за все эти «Улицы» и «Рассветы». В какой-то прекрасный момент этот «инженер человеческих душ» на глазах изумленной публики, стоявшей в очереди в музей, воткнул другому «инженеру» прямо в зад вилку. И тогда кто-то из москвичей не выдержал и побежал звонить в милицию. «Милосердие иногда стучится в их сердца», – говорил булгаковский Воланд, правда, по другому поводу. Скандал дошел до парткома Союза писателей Москвы. Константин Ваншенкин в книге «Писательский клуб» вспоминал, что присутствовавшие на этом, я бы сказал, необычном творческом заседании «рассказали, что в наиболее драматичный момент Суров спустил брюки и продемонстрировал четыре запекшиеся точки ниже спины – след удара вилкой. Упоминалось еще сломанное в пылу битвы кресло.
В то время степень наказания обычно не соответствовала весомости проступка и значительно колебалась – в ту или иную сторону. В данном случае провинившиеся отделались, что называется, легким испугом».
Но этим дело не кончилось, мимо этого случая решили не пройти Александр Твардовский и Эммануил Казакевич. Они дружили, оба презирали такого рода литераторов и не могли – для истории – не запечатлеть этот скандал единомышленников. Откликнулись сонетом:
Суровый Суров не любил
евреев,
Где только мог, их всюду
обижал.
За что его не уважал Фадеев,
Который тоже их не обожал.
Но вышло так: сей главный
из злодеев
Однажды в чем-то где-то
недожал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
За ним вдогонку с вилкой
побежал.
(...)
Но, следуя традициям
привычным,
Лишь как конфликт хорошего
с отличным
Все это расценило партбюро.
Надо ли уточнять, что роман Бубеннова, как и пьесы Сурова были написаны именно в таком – бесконфликтном духе.
Покаяние и раскаяние Фадеева («Не вижу возможности дальше жить…)
Фадеев был не только писательским чиновником – был настоящим писателем (в пору написания «Разгрома») и тяжело переживал свой не поступок – проступок. И, пытаясь хоть каким-то образом искупить свою вину – не перед всеми оболганными и выброшенными из литературной жизни критиками – перед Гурвичем, с которым был дружен с давних времен, через некоторое время позвонил театроведу Александру Мацкину, самому товарищу не решился. Александр Борщаговский в книге «Записки баловня судьбы» вспоминал: поинтересовавшись, как живет его товарищ, и узнав, что у него описали и вывезли мебель, оставили только книги, письменный стол да кровать, сказал: «Я хотел бы дать ему денег… – «Позвони ему сам, это деликатное дело», – уклонился Мацкин. Они с войны перешли на «ты», с Гурвичем Фадеев тоже давно был близок». «Я тебя прошу: сделай это для меня». Мацкин уступил и позвонил на Красную Пресню. Трубку взяла Ляля Левыкина, жена. Она оборвала разговор: «А Александру Александровичу скажи, что, если появится, я его спущу с лестницы». И затем, заканчивая историю с неудавшейся помощью, продолжил: «Может быть, Фадеев был лично добр… Но какое это может иметь значение в свете объективных результатов его деятельности? Когда меня оболгали, превратили в изгоя, отщепенца, то есть во времена, памятные и тебе, он предложил мне путевку в санаторий за счет Литфонда… Хотел ли он этим отмежеваться от несправедливости, малой долей добра откупиться от угрызений совести в связи со злом, к которому был причастен с самой первой минуты его возникновения?»
От себя добавлю – генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей СССР, член ЦК ВКП(б) , лауреат Сталинской премии I степени (1946) покончил с собой 3 мая 1956 года в Переделкине. На столе нашли письмо в Центральный Комитет КПСС, которое начиналось со слов: «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено…»
Малограмотный авантюрист (легенды и действительность)
Суров вошел в фольклор при жизни. Одна из историй повествовала, как однажды лауреат Сталинской премии в день выборов в Верховный Совет явился в избирательный участок подшофе и на глазах изумленных послушных граждан, желавших проголосовать за единый и нерушимый блок партийных и беспартийных, стал непристойно выражаться, послал к одной такой матери изумленный подобным поведением избирком, на глазах которого изорвал бюллетень со списком кандидатов. Конечно, легенда, но каков замах? Это в 1950-е годы, когда за более невинные шалости можно было загреметь, куда Макар телят не гонял. За «аморальное поведение» – Союз писателей стал рьяно бороться за чистоту своих рядов после смерти вождя – Сурова сурово наказали, отобрали членский билет СП, присоединив к нему Вирту, Галсанова, Коробова. О чем 6 мая 1954 года официально известила своих читателей идущая в первых оттепельных рядах «Правда».
В славные писательские члены Сурова вернули. За три года до его восстановления в Союзе писателей уже неоднократно цитировавшийся на этих страницах Александр Борщаговский, когда речь зашла о некоторых литературно-общественных явлениях конца 70-х, написал критику Валентину Курбатову: «Остается только пригласить в кабинет Сурова, извиниться перед этим малограмотным авантюристом за случившееся когда-то исключение из Союза и вручить ему билет…» Билет вручили в 1982 году.









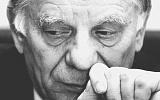
комментарии(0)