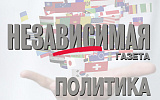Арсений Несмелов. Собрание сочинений в 2-х т. / Составители: Евгений Витковский, Александр Колесов, Ли Мэн, Владислав Резвый; предисловие Е.Витковского; комментарии Е.Витковского и Ли Мэн. – Владивосток: Рубеж, 2006, 560 + 732 с.
Конечно, решение Арсения Несмелова уйти весной 1924 года из большевистского Владивостока в Харбин, куда к тому времени стеклись из Сибири и с Дальнего Востока остатки белых войск – от армии Колчака до безжалостных рубак атамана Семенова – стало для него, – Арсения Ивановича Митропольского, окончившего Нижегородский кадетский корпус, офицера царской армии и участника Первой мировой, колчаковского поручика и убежденного монархиста, жестом окончательным. Хотя в его уговоре с такими же бывшими белыми офицерами бежать за границу был и авантюризм, и просто молодая дерзость. Об этом он пишет в своих мемуарах «О себе и о Владивостоке» и «Наш тигр». После того как план был определен, в один из майских деньков он в последний раз пришел отметиться в комендатуре ГПУ, где состоял на учете как представитель «бывшего белого комсостава», и там-то ему вдруг и сказали: «Если за вас поручатся два члена профсоюза, мы снимем вас с учета». Это означало, что я уже не буду привязан к Владивостоку и могу ехать куда мне захочется, хотя бы в Москву. Но – поздно. Пишущая машинка была продана, а на ногах прочно сидели крепчайшие бутсы, торопившие ноги в поход». Решительность боевого офицера, верность слову, данному друзьям, и веселая злость, какая бывает перед боем, заставили его сделать этот шаг. В «Стихах о револьвере» Несмелов точно сказал о своей готовности сразу ответить на вызов судьбы: «Ты – в вытертой кобуре, / Я – в старой солдатской шинели┘ / Нас подняли на заре, / Лишь просеки засинели». Но о том, что именно в эту минуту им был выбран путь, который приведет его к славе лучшего поэта дальневосточной эмиграции, знаем только мы, его читатели XXI века.
Двухтомное собрание сочинений Арсения Несмелова, изданное во Владивостоке, завершает маршрут этого многодневного броска через глухую маньчжурскую тайгу в Харбин, столицу КВЖД и русской эмиграции в Китае, где беглецу предстоит прожить двадцать лет. Круг сомкнулся, все произошло справедливо и красиво, словно по блестящему, хотя и жестокому, рассчитанному только на потомков, плану некоего Генерального штаба русской литературы. И то, что двухтомник Несмелова открывает публикацию научно подготовленных изданий дальневосточных писателей белой эмиграции; и то, что он опубликован во Владивостоке, где появился на свет поэт с фамилией Несмелов и вышли три его книжки: «Стихи» (1921), «Тихвин» (1922), «Уступы» (1924); и то, что главным его составителем, автором выстраданного предисловия и комментариев стал Евгений Витковский, с конца шестидесятых годов прошлого века буквально по стихотворению, по рассказу собиравший творчество писателя; и то, что издано собрание Тихоокеанским альманахом «Рубеж», преемником знаменитого харбинского одноименного журнала, который с 1992 года возвращает в современный контекст литературы культурное наследие дальневосточной эмиграции. Красиво и выразительно в историческом смысле, наконец, оформление книг: на светло-серой тканевой обложке, напоминающей читателю о цвете мундиров колчаковской армии, оттиснут автограф поэта – его владивостокское стихотворение «Кладбище на Улиссе», в котором Несмелов вспоминает бухту Улисс, где он жил в последний год перед побегом, кормясь подледной ловлей наваги. В 1924 году, при красных, журналистской и литературной работы ему уже не было.
В первый том вошли все поэтические книги поэта, изданные при жизни, а также большой корпус стихотворений и поэм, обнаруженных в эмигрантских газетах, журналах, альманахах и сборниках, в государственных и частных архивах. Второй том составили рассказы, повести, отрывки из романов и воспоминания – лучшая его проза, примерно половина из всего найденного на сегодняшний день. И труд составителей неоценим хотя бы потому, что личного архива автора, арестованного советскими властями в Харбине в 1945 году и скончавшегося от инсульта осенью этого же года в бараке пересыльной тюрьмы на пограничной с Китаем станции Гродеково, просто не существует. Фигура Несмелова восстала в прямом смысле из пепла Гражданской войны, из культурного праха русского Китая, из долгой памяти бывших харбинцев.
У Несмелова был недолгий период творческого сближения с футуризмом, что вполне естественно, если учитывать, что Владивосток в начале двадцатых стал своего рода дальневосточной столицей футуристов, где Бурлюк, Асеев, Третьяков, очень одаренный, по словам Несмелова, дальневосточный поэт Венедикт Март находились в самой гуще бурной литературной жизни и задавали тон. Но Несмелов по всему складу характера, по творческому типу был поэтом личного опыта, лириком русского офицерства, игры любого толка – эстетского или идеологического – ему были чужды. Его поэзия в самых ярких, значительных своих образцах, – это летопись Белого движения, его веры, надежд, ярости, ужаса и трагических разочарований, когда вся злоба дня отступает перед лицом национальной катастрофы: «А с балкона, расхлебяснув ворот, / Руку положив на ятаган, / Озирал раздавленный им город / Тридцатитрехлетний атаман...».
Еще во Владивостоке, прочитав первые стихи Несмелова, Асеев отметил его редкую наблюдательность, умение найти выразительную предметную и психологическую деталь. Некоторые – из лучших – стихотворения и поэмы отлились под рукой поэта в мощные, живописные баллады – по своему ритмическому строю и сюжетной композиции, по выразительности человеческих характеров, написанных густо, прямо с натуры. Так в поэзии Несмелова появляется целая галерея портретов, за которыми эпоха, наверное, это и можно назвать повестью поколения: «Ловкий ты и хитрый ты / Остроглазый черт, / Архалук твой вытертый / О коня истерт. / На плечах от споротых / Полосы погон, / Не осилил спора ты / Лишь на перегон».
Военные рассказы Несмелова, будь они о германском фронте или о таежных походах времен Гражданской войны, оставляют впечатление подлинной, ничуть не устаревшей прозы – интересной сегодня именно в силу своей исторической достоверности и литературного мастерства. Здесь можно вспомнить хотя бы рассказы «Контрразведчик», «Богоискатель», «Всадник с фонарем», «Встреча на мосту», «Трудный день поручика Мухина»┘ Особенно ощутима художественная значительность этих произведений рядом с теми фельетонами – поэтическими и прозаическими, которые Несмелов, зарабатывая на хлеб, писал для эмигрантской прессы. Общая беллетристическая даровитость, профессионализм небрезгливого журналиста, собственно, и помогли ему выжить в Харбине, занимаясь только газетной и литературной работой.
Откликаясь из Парижа на рассказ «Короткий удар», напечатанный в харбинском сборнике «Багульник», филолог и критик И.Н.Голенищев-Кутузов писал, что он «не уступает лучшим страницам нашумевшего романа Ремарка», имея в виду книгу «На Западном фронте без перемен». Скорее всего так и есть, но вот что поразительно: с десяток отборных несмеловских рассказов сразу же устанавливают совершенно живую связь с советской военной прозой, которую определяли то как «лейтенантскую», то как «окопную».
Примечательно, что сам Несмелов и его писательская позиция характеризуются разными людьми примерно в одном ключе. Тот же Голенищев-Кутузов, один из немногих европейских критиков эмиграции, кто с интересом вглядывался в литературную жизнь Харбина, писал: «Упоминать имя Арсения Несмелова в Париже как-то не принято. Во-первых, он – провинциал (Что доброго может быть из Харбина?); во-вторых, слишком независим». Поэтесса Ю.В.Крузенштерн-Петерец вторила ему: «Однако для харбинской молодежи, как и для читающего русского Парижа, Несмелов был слишком независим». Словно сговорившись, харбинцы повторяют это определение.
Несмелов действительно не вписывался ни в одну привычную модель эмигрантского поведения: всю жизнь он оставался верен памяти своего белогвардейского прошлого, ненавидел большевиков, но всю тяжесть за свершившуюся трагедию на них не возлагал.
Когда-то Акутагава, уже находясь на грани безумия, сказал о себе последнюю правду: «У меня нет совести. У меня есть только нервы». Затем эти слова на свой лад повторил Бродский. Похоже, что у Несмелова за годы эмигрантской жизни осталось одно офицерское достоинство, понимаемое им глубоко лично, вне привязки к пространству и времени. Честь и достоинство исключительно для Арсения Несмелова, который научился жить в пустоте духовного одиночества, наедине с русским поэтическим словом, о чем он и написал в стихотворении, названном коротко «Без»: «И это все. До капли. До конца. / Так у цыган вино гусары пили. / Без счастья. Без надежды. Без венца. / В поющей муке женского лица, / Без всяких клятв, без всяких «или – или»!».