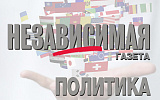|
| И слушали его горы, никли ели и сосны,
склоняясь к скрипке, а снежные вершины пускались в пляс. Фото Андрея Щербака-Жукова |
Скрипач Эфраим Циркис не меньше, чем Мотя Блох, слыл среди родни человеком легендарным. Начать с того, что вся ветвь Циркисов, родственников со стороны рано умершей бабушки Бейлы, которую Леонид никогда не видел, разве только на фотографии, то есть родители Эфраима, его дедушки и бабушки, стали первыми среди родни, переселившимися в коренную Россию, на Волгу, в Саратов. Причем переехали они не по своей воле, а по жестокому распоряжению Ставки, массами депортировавшей евреев в Империалистическую войну из приграничной полосы и даже на сотни километров из прилегающего тыла. «Увели их в новый Вавилонский плен», – сказал однажды папа.
В Саратове Циркисы и остались, старшие – навсегда. Эфраим же родился через год после депортации и, как говорили, со скрипкой в руках. Семейное предание гласило, что в тот момент, когда повитуха приняла на руки младенца, огласившего комнату необыкновенно громким и одновременно мелодичным криком, и стала перерезать пуповину, его отец Янкель Циркис, клезмер в шестом поколении и по совместительству аптекарь, от волнения выскочил на крыльцо и увидел над домишком облако, напоминавшее по форме мальчика, державшего в руках скрипку. И будто бы услышал из облака мелодию «Хава-нагилы». Причем, по его уверению, не только музыка, но и слова звучали из облака: Давайте-ка возрадуемся, Давайте-ка возрадуемся да возвеселимся!
Давайте-ка споем!
Давайте-ка споем
да возвеселимся!
Просыпайтесь, братья!
Просыпайтесь, братья,
с радостью в сердце!
А было это года за полтора до Идельсона, славного автора, впервые исполнившего эту песню на знаменитом концерте в Иерусалиме в честь прихода англичан и декларации благородного Бальфура.
Когда потрясенный Янкель Циркис вернулся в свой маленький дом, повитуха, улыбаясь во весь свой щербатый рот, протянула Янкелю младенца и провозгласила: «Этот точно будет великим музыкантом. Я столько уже принимала. И писателей, и поэтов, и банкиров, и раввинов. А этот особенный. Посмотрите на его пальчики. Такими только на скрипке играть. А голос-то. Сладкий, как мед. Словно у хаззана».
Двойное это пророчество начало быстро осуществляться. В три года Эфраим еще не мог удержать в руках скрипку, но уже водил по струнам смычком, извлекая из них такие проникновенные звуки, что все кругом плакали или бросались танцевать фрейлекс, а раввин говорил, что скрипка это еврейский инструмент даже намного больше, чем итальянский. Эфраиму было далеко до четырех лет, а он уже играл перед красноармейцами, и так играл, что эти давно огрубевшие, очерствевшие, усталые люди, много месяцев, а то и лет не видевшие родных, привыкшие к смерти, боли и крови, начинали плакать или улыбаться и мечтать о своей несбыточной коммуне, о полузабытых женах и детях, а самый главный, их командующий комиссар в кожаной тужурке и пенсне, похожий на Троцкого, с давно стершейся из памяти еврейской фамилией, велел родителям Эфраима и дальше учить мальчика игре на скрипке, чтобы вырос из него первый красный скрипач и чтобы создавал он новую пролетарскую музыку, потому что от старой, буржуазной, со временем придется отказаться.
И родители учили. Сначала сам Янкель Циркис, а потом и знаменитый на весь Саратов кантор Абба Ковнер. Учение не пропало даром: когда в восемь лет безбожники заставили Эфраима играть на йом-кинурнике, он так играл, так водил своим смычком, будто вовсе не маленький Эфраим, но сам гнев божий обрушился на греховодников и куски некошерной пищи не полезли им в глотку. Будто буря, посланная Господом, заставила их рыдать и, каясь в безбожии и в принесенной свинине, бежать из синагоги.
После этого случая о маленьком Эфраиме заговорил весь Саратов. Между тем он быстро рос и игра его стала такой зрелой, что в Саратове больше не находилось достойных учителей, пришлось отправить Эфраима в Москву к очень дальним родственникам. В столице, рассказывали, Эфраимом восхищался сам молодой Ойстрах и даже пожелал играть вместе с ним на концертах.
К тому времени не играли больше клезмеры на еврейских свадьбах и бармицвах, не летали от радости в зажигательных танцах легконогие танцоры, да и самих клезмеров, прежних, не стало. Пустели местечки, закрывались синагоги, не стало больше прежнего еврейского веселья. И сами евреи продержались в диаспоре почти две тысячи лет, из них сотни лет в украинских, белорусских и литовских местечках, охраняемые сначала статутами, а потом унизительными законами, погромы пережили, но вот наступила запоздалая российская гаскала... Эмансипация перед катастрофой... Ассимиляция... Возможно, в другое время Эфраиму предназначено бы было стать великим клезмером от Балкан до Карпатских гор, от Дуная – по обе стороны Днепра и от Одессы до Вильно. Сейчас же Эфраим Циркис, в 20 лет окончив консерваторию, колесил со своей скрипкой по необъятной советской стране: выступал с концертами соло, с ансамблями, с оркестрами и в кино играл – поднимал дух строителей социализма. Приходилось все больше играть классику да могучую русскую музыку, хотя и в городских романсах, и в песнях, и даже в блатных напевах все сильнее проскальзывала еврейская душа. Лишь изредка играл он еврейские мелодии, которые особенно любил с детства. Вроде не запрещалось, но неловко как-то. Косо могли посмотреть. И, бывало, уходил куда-нибудь в рощицу или в лес, отдыхал на Кавказе, в горах: вот среди гор и играл. И слушали его горы, никли ели и сосны, склоняясь к скрипке, а снежные вершины пускались в пляс.
«Что здесь? Свадьба!» – вспоминал Эфраим Циркис рассказы отца. – «Свадьба! Свадьба!» и летал по струнам смычок, и в одиночестве радовалась воспоминаниям скрипка. Только лес шумел. И склоняли к Эфраиму деревья свои штраймлы-кроны и плакали, что не стало больше старинных еврейских свадеб...
Много где играл Эфраим Циркис. И всю войну прошел со своей скрипкой: выступал в госпиталях, на фронте и перед тружениками в тылу. Бывало, по обе стороны фронта заставлял солдат плакать. И замолкали на время пушки. И так случилось, после освобождения Киева пришел он к Бабьему Яру. Пустая, горькая, израненная, страшная, лишь кое-где припорошенная снегом земля-грязь встретила его. И пела скрипка, и рыдала скрипка...
С тех пор Эфраим Циркис особенно полюбил уединение. Уходил куда-нибудь в лес или к реке, удалялся на дальний пустырь, прятался в неурочные часы в безлюдном концертном зале – и играл. Что он станет играть, он и сам не знал. Доверялся своей руке и своей душе, сливавшейся в этот момент со скрипкой. Смычок сам извлекал печаль, звуки сами сплетались в мелодию. Плакала, рыдала скрипка...
Иногда Эфраим записывал свои мелодии, отсылал друзьям, исполнял; говорили, что это была великая музыка. Но издавать свои сочинения Эфраим не пытался, лишь хранил ноты. Победившей стране требовалась другая мелодия: бравурная, духоподъемная. Требовалось славить вождей...
За много лет до того, как семья Циркисов не по своей воле покинула навсегда черту оседлости, среди убогого, наспех собранного скарба находилась и книжка Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды». Мальчиком Эфраим много раз перечитывал эту трогательную книгу – понимать еврейскую азбуку, читать и писать на идише научил его дедушка, мамин отец, бывший кантор в синагоге. Эфраим словно догадывался, что «Блуждающие звезды» – это про него и про Рахель.
Рахель была артисткой на все руки – и певицей, и танцовщицей в ГОСЕТе, красавицей с огромными голубыми глазами. Она мгновенно сразила Эфраима, едва лишь он впервые увидел ее на сцене. Он дарил ей цветы, играл перед ней полные страсти и огня пьесы, фантазии и каприччио, но, увы, оказалось, что она замужем и недоступна. Она тоже любила его, это Эфраим узнал позже, но близко к себе не подпускала: боялась совершить грех. Словно блуждающие звезды у Шолом-Алейхема, они расставались много раз, теряли друг друга, виделись лишь изредка издалека. Рахель старательно избегала Эфраима. Будто две звезды, перемещавшиеся в пространстве по разным орбитам. В 41-м вместе с театром она эвакуировалась в Ташкент, и два с лишним года они не виделись. Он и она выступали перед солдатами на фронте, но так получалось, что все время в разных местах.
О, это была такая любовь! В детстве Леничка слышал, как об Эфраиме с Рахелью шепталась сестра. Будто не о родственниках, хоть и дальних. Будто история из Шекспира. Из другого времени. Из сказки. Леонид давно не помнил, с кем шепталась сестра, что именно они говорили, осталась только ассоциация: Эфраим и Рахель – Ромео и Джульетта из XX века!
Но у этих Ромео и Джульетты все свершилось. Муж Рахели, Алик, майор, в 45-м погиб под Берлином. Расписались они только через два года, чуть ли не в тот же день, когда родился Леонид. Но еще раньше, в победном 45-м, Эфраим стал играть в оркестре в ГОСЕТе – он всегда мечтал исполнять еврейские мелодии. И ведь рядом с Рахелью. А с другой стороны, какой еврейский театр может быть без скрипки?
Увы, история Ромео и Джульетты не могла долго оставаться счастливой. Словно весь мир объединился, чтобы им помешать. Ну пусть не весь мир, но сам oтец народов.
Эфраим по-прежнему каждый вечер играл на скрипке, заманивая Рахель в свои горячие объятия; в убогой своей комнате в коммуналке они еще были счастливы и жили, как бабочки, ночи напролет шептали слова любви и не думали ни о каком космополитизме. Рахель, цветущая от любви, прекрасная, словно Юдифь или Эсфирь, с каждым днем становилась все красивее и грациознеe – в эти месяцы накануне января 1948 года и в первые январские дни она, как никогда больше, радостно порхала от счастья; и в театре по-прежнему ставили веселые «Фрайлекс» и «Гершеле Острополера», когда, словно гром среди ясного неба, грянула страшная весть: в Минске убили Михоэлса.