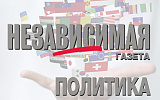Вацлав Михальский. Ave Maria.
– М.: Согласие, 2011. – 406 с.
Вацлав Вацлавович Михальский (р. 1938) – прозаик, сценарист, лауреат Государственной премии в области литературы за 2003 год. Роман «Ave Maria» завершает шеститомный цикл о русских эмигрантах первой волны. В центре повествования – судьбы сестер Марии и Александры Мерзловских.
Что ни говори, а Михальский – белая ворона в современной прозе. Или – мамонт, если искать ему более монументальное измерение. Обязательно – белый. Если учесть истоки повествования, сразу же твердо нащупанные в бело-красном месиве Гражданской войны. Дело и в самом жанре. Писать многотомную эпопею и публиковать ее на протяжении десяти лет – в ситуации, когда литература пляшет на ежегодных счетах купли-продажи, и тексты бывают рассчитаны на сезон (успеть распродать!), и стилистика выворачивается наизнанку (только бы заявить о себе на рыночном аукционе – перехватить внимание – успеть!). Чтобы в этой ситуации писать том за томом историю двух сестер (мысленно молясь на автора «Трех сестер» с его загадочной невозмутимостью) – тут надо иметь кроме упрямого авторского героизма («героищизны» – польские предки в чести у Вацлава) еще и казачью боевую неуемность (казачьи предки – тоже в чести). Не говоря уже о чисто русской всеотзывчивости, неотделимой от самоотверженности, когда чужое делается своим, потому что свое братски (или вынужденно) поделено с чужими┘
Но похоже, что на шестом томе Вацлав Михальский все-таки завершает эпопею. «Ave Maria».
От победных майских дней 1945 года действие перетекает в осень 1948-го, к ашхабадскому землетрясению, потом к полету первого спутника в 1957 году, потом к «смуте» 1990-х (по ходу которой предполагается и время, предуготованное «смуте» в истории, и срок ее окончания – начало XXI века). Действие, охватившее таким образом век ХХ, завершается в самом начале века XXI, когда у гроба старшей сестрички почти случайно оказывается старенькая младшенькая, и вековое странствие душ (и тел) друг к другу вроде бы завершается┘
Странствие – через «весь мир». В ходе этого странствия к Бизерте времен Первой мировой войны и Севастополю времен Великой Отечественной добавляются помимо глубинок Советской России «глубинки» Северной Африки, а также Франция, Португалия и – отдельными штрихами – Америка. Поневоле (впрочем, почему поневоле? – по воле автора и встречной согласной воле читателя) размах-разброс действия навевает мысль о художественной модели «вселенского» прицела, об осмыслении путей истории, о человеческой жизни как таковой, то есть о смысле ее мучений. Смысл этот взвешивается с помощью великих душезнатцев (от Ювенала, считавшего утрату смысла жизни ради самой жизни – вечным позором, до Толстого, видевшего смысл жизни в самой жизни, и Достоевского, учившего любить жизнь больше, чем ее смысл) – тогда становится понятно, что две сестры, мысленно ищущие друг друга на протяжении всей жизни, ищут у Михальского не просто друг друга, но┘ смысл. Смысл того, что с ними случилось. Смысл того, что было и будет на этой земле.
Так есть смысл или нет смысла? Вроде бы есть. Встречаются сестры на последней странице шеститомной эпопеи. Всю жизнь чаяли, мечтали, боялись и жаждали встречи, ничего друг о друге не знали: старшая запомнила младшую на руках у матери (еще миг – и белый флот, отчалив от Крыма, увезет старшую в изгнание; младшая старшую вообще не запомнит: останется в СССР, вырастет, станет мастером спорта, пройдет фронт и, зная о старшей сестре, не решится ее разыскивать. Как и старшая – младшую, чтобы ей не навредить).
Так преодолели ли сестры эту сценографию абсурда, эту фантасмагорию расколов и столкновений, эту пустыню страшного века? Преодолели. Как? Уже глубокой старушкой, в оттепельно-контактные времена, младшая почти случайно, в ходе отпуска внучек, взявших ее в поездку, попадает с ними в Бизерту и – почти случайно же – оказывается в тамошней православной церкви на чьем-то отпевании. Плохо расслышав, переспрашивает имя усопшей. И слышит имя старшей сестры. Схватившись за руку внучки, младшая, потрясенная, протискивается к гробу и видит маленькую фигурку с бумажным венчиком на лбу. Вот я и спрашиваю: эта встреча – за гранью всякой мыслимости, за старческой чертой, за пределами сил – это увенчание жизненного пути? Или бесовская усмешка «нечистого», сунувшего венцу человечества бумажный венчик на чело?
Что должен думать Вацлав Михальский, доведя пути своих героев (и прежде всего героинь) до такого апофеоза? Где тут смысл и где пародия на смысл? И есть ли хоть какой-то общий смысл в этих переворачивающихся обстоятельствах? Да, есть – отвечает Михальский. Нет, нету – тотчас добавляет. И варьирует это двойное мироощущение словами младшей героини: «У меня нет сил на вранье, а еще меньше сил на правду». Ни Ювенал, ни Толстой с Достоевским в этом состоянии не прибавляют сил. Разве что Чехов? Который сказал, что между понятиями «Бога нет» и «Бог есть» лежит поле, которое каждый должен перейти сам? Переходя поле вслед за сестрами, Михальский повторяет: «Сказать правду невозможно и солгать невозможно». А может, правда – это правда ее невозможности?
Прослеживаю дальше мироощущение, зафиксированное в шести томах эпопеи. Жизнь непредсказуема. Но в этой непредсказуемости все без конца повторяется в формах, изумительно, издевательски симметричных. И притом контрастных до неправдоподобия. То ли это «да», то ли «нет». Каждое мгновение человеку приходится выбирать между «да» и «нет». За пределами мгновения жизнь течет так, что эти «да» и «нет» преследуют человека бесконечно. Каждая ситуация настигает человека по-своему, но от магии зеркальной похожести спасения нет. Михальский старается разгадать эту магию, работая на контрастных подобиях. Он, например, точно фиксирует (с учетом поясного времени) час трапезы обеих сестер, чтобы в этой одновременности получше действовал контраст: что едят там и что тут. И что пьют, конечно. С питием проще: на Руси пропуском к задушевности служит добрый стакан самогона, по опустошении которого звучит третий проклятый вопрос бытия: «Ты меня ув-важаешь?» Обитатели Запада в это время смакуют винтажное порто с его изумительным послевкусием и решают вопрос о том, в каких случаях десертное порто уступает сухому марки «Мердок». А с запахами? Тут все измеряется привычной на Западе «Шанелью», которую по-боевому осваивают наши послевоенные генеральши, и тут – внимание! – в музыке сфер опять обнаруживается бесовская хитрость: Мерзловская-старшая советует душиться «чуть-чуть за ушами», не более, к коему совету вынуждены прислушиваться новопроизведенные советские модницы┘ Общероссийский же запах? Он остается в диапазоне «угольной гари и пропитанных мазутом шпал».
У Михальского столь тонкая и хитрая нюансировка этих подробностей быта, что лучше не попадаться на крючок. Например, 10 октября 1948 года. Очередная зеркальная трапеза. В Париже подана на завтрак чашка кофе со сливками (при непременной реплике: «Отличный кофе!») и свежие круассаны «с душистым нормандским сливочным маслом и абрикосовым джемом». А в Ашхабаде в этот час┘ уже ждешь по контрасту какой-нибудь затирухи из жмыха┘ Врешь: в Ашхабаде на обед «украинский борщ со злым красным перцем по желанию, жаренная на углях баранина и холодная московская водка в запотевшей бутылке». Откуда такая роскошь? А трапеза происходит среди развалин города, уничтоженного землетрясением, среди десятков тысяч тел погибших, десятков тысяч покалеченных, которых надо срочно спасать┘ Хирурги должны иметь силы, поэтому кормят их по особому рациону┘
Так и хочется завершить художественное взаимовглядывание кушающих горькими словами: «Что, съели?» Михальский не хочет предсказуемых пропагандистских контрастов, он чуток к мельчайшим деталям, которые контрастируют непредсказуемо. В толпе детей, спасенных из-под развалин, он замечает восьмилетнего мальчика, потерявшего мать и двух братьев, ему предсказано блестящее будущее и золоченые памятники при жизни. Следует сноска мелким шрифтом: «речь идет о Туркменбаши». Что вы должны почувствовать, прочитав эту лаконичную справку? Вернуть этого мальчика в «счастливое детство»? Это немыслимо, невообразимо. Это кощунственно, наконец. Надо вытерпеть, вынести чугунную поступь реальности. А кому золотое царствие, кому мародерская пуля в затылок – не угадаешь. Именно мародер – безликий, неуловимый, статистический убийца – кажется в картине Михальского настоящим вершителем личных судеб. Бытие идет вперед тяжелыми, смертельно-неотвратимыми шагами. Свои и чужие разделены фронтами. Гибель влетает воющим снарядом, так что в воронке остается только «левый сапог». Но на микроскопическом, «молекулярном» уровне этого убийственного бытия действуют┘ ну, я же сказал: безликие мародеры. По обе стороны фронта. Без имени, без памяти, без смысла. Возникают непредсказуемо и исчезают бесследно, оставляя жуткое ощущение воли (или свободы?), гнездящейся в потаенных складках бытия, – именно потому, что в открытую там негде гнездиться. Эти вестники дикой воли возникают (и исчезают), как призраки. Гибель висит над людьми так безымянно, что в лучшем случае будет сноска (кому гибель от мародерской пули, кому золоченые памятники). А если все-таки спасли человека, от которого вроде бы один левый сапог оставался у воронки, то┘ на горной тропе выворачивается безымянный камешек, и от жизни, которой было посвящено шесть томов романа, остаются в памяти близких только «трагические глаза».
Жизнь и смерть обмениваются жертвами в молчании. Словно компенсируя эту немоту, Михальский живописует повседневный быт своих героев (по обе стороны железного занавеса) с такой скрупулезно выверенной щедростью, что она кажется иногда чрезмерной, но эта неукоснительная действительность бытия ежедневно лезет в глаза, чтобы обернуться гибелью, не имеющей ни имени, ни причины┘ Глаза все равно «трагические». Это мироощущение проходит лейтмотивом через все шесть томов эпопеи Михальского вплоть до самого финала. «Бог располагает». Или менее возвышенно: «Судьба ведет. Взяла за шкирку и повела». Угадывать, куда повела, бессмысленно. «Жизнь летит и сметает всех в одну кучу». А смысл, смысл?! В смысл можно верить. «Все не зря в этой жизни, все переплетается и скручивается самым причудливым образом». Можно не верить. «Такая жизнь у нас крученая┘» И никто не виноват. Лучше не загадывать, снаряд ли дальнобойный прилетит по твою душу или пуля мародера. Фатален ход исторических событий. Спасение придет, когда не ждешь. Добрый человек может явиться тебе на помощь среди развалин Севастополя или Ашхабада так же неожиданно, как может и пройти мимо┘ а то и доконать мародерски┘ впрочем, чаще – помочь и спасти. По непредсказуемой, чисто русской «логике души». «В жизни Александры Александровны не раз случалось так, что в трудных обстоятельствах ее выручали случайные люди, лишь соприкоснувшиеся с ней, казалось, только для того, чтобы поддержать; эти люди вдруг возникали из небытия и, сослужив ей верную службу, навсегда исчезали из ее судьбы. Она всю жизнь помнила каждого из них, они были для Александры Александровны как знаки свыше, как посланцы от ее ангела-хранителя».
Но если отдельный человек в этой «куче» вынужден полагаться на ангела-хранителя, то куда трагичнее этим же людям, когда они втиснуты в социальные цепи, в воюющие армии или, еще страшнее, оказываются во главе армий. Михальский прикован к судьбам таких невольников истории, хотя часто опускает их в сноски, видимо, чтобы не мешать героиням мечтать в этом хаосе о встрече. Сноски, обширные и фундированные исторически, интересны настолько, что хочется их извлечь из мелкого шрифта┘ но воля автора – повторяю – закон. Да и действуют такие «герои сносок» именно по закону возмездия, а не потому, что судьба непредсказуемо тащит их за шкирку. Самая горькая доля – у маршала Петэна. Спаситель Франции от немецкого вторжения в 1915–1918-м (Верден–Компьен). Предатель Франции, капитулировавший перед немцами в 1940-м (Компьен–Виши). После освобождения страны от гитлеровцев приговорен вернувшейся в Париж французской властью к смертной казни. Так спаситель или предатель? Или то и другое? Получается так┘ у Михальского это описано в излюбленном «зеркальном» ключе: «После побега де Голля в Лондон Петэн приговорил его к смертной казни за измену Родине.
Затем де Голль приговорил Петэна к смертной казни за измену Родине.
Понятно, что ни тот ни другой никогда не изменяли Франции. Просто так карта легла, как сказала бы Мария Александровна и как говаривал сам де Голль».
Де Голль не успел помиловать Петэна, потому что сам потерял власть в январе 1946-го. Но в августе 1945-го он успел через два дня после приговора заменить маршалу смертную казнь пожизненным заключением, в коем старик и дожил до 95 лет, слыша шум родного моря за стеной тюрьмы, а самого моря не видя.
Тем же мелким шрифтом, в примечании, Михальский дорисовывает характеры: «А если ко всему этому еще добавить, что Петэн и де Голль служили в одном полку, что оба прошли мясорубку Вердена, в которой погибло 2 миллиона человек, что де Голль был адъютантом маршала Петэна, а Петэн крестным отцом первенца де Голля Филиппа, то картина получится вполне шекспировская».
Так быть или не быть в этой истории справедливому приговору? Предатель? Или спаситель, предупредивший кровавое нашествие гитлеровцев, которые потопили бы Францию в крови, попробуй она сопротивляться? Дело не в том, как «легла карта», а в том, на что может или не может решиться нация, оказавшаяся перед роковым выбором. Таков и выбор вождей. Генерал Франко, при всей его ненависти к марксистам, коммунистам и прочим активистам левого фронта, – не дал же Гитлеру ни одного испанца на Восточный фронт!
Один народ ищет путь выхода, запасаясь терпением в покорстве, другой избирает гибель в схватке. И никто не смеет судить со стороны, та или эта «карта» должна лечь народу в кровавом безысходе. Сербы и хорваты дерутся, оказавшись по разные стороны фронта расколотыми на половинки. А чехи продолжают при гитлеровцах жить и работать в неволе: клепают танки, которые с немецкими крестами на боках идут под Севастополь и Сталинград. А кто бьется насмерть в безысходной ситуации? Поляки, раздавленные с двух сторон и не примирившиеся. Русские, ответившие на германское вторжение Великой Отечественной войной. Поляки – безысходная душевная боль Вацлава Михальского. Все должен потерять его герой Адам Домбровский. Не только жизнь – имя. Останутся в памяти родных как неизбывный, детьми и внуками унаследованный признак поляка – трагические глаза. А русские, распинаясь между крайностями, в которых реализуется то «свое», то «чужое», отпускают у Михальского шуточки: «Хорошо быть русским. Чужие не убьют, так свои достанут». И, разрушая очередной раз все «до основанья», а затем строя «новый мир» и обнаруживая, что нового не получается, – продолжают думать не столько о стране, сколько о «вечности». «Ты думаешь, Россия погибла навечно?» Такая завороженность «собой» в плане вечности – и притом: «собой не дорожит наш великий народ»! Что это? Я бы сказал: сомнамбулическое шествие с периодическими поворотами на 180 градусов. И непременно при таких поворотах правители искренне объясняют подданным (и себе), что иначе нельзя, настало время перемен и вот-вот будет лучше. «Лучше не будет», – понимает умудренная опытом мать Марии и Александры. Михальский подкрепляет ее раздумья (не мелким, а крупным шрифтом): «Советская власть не вечна, но дело не в одной лишь власти. Придет другая, и что, народ перестанет быть для правителей расходным материалом? Вряд ли».
 Всю жизнь боялись и жаждали встречи, ничего друг о друге не знали... Каспар Давид Фридрих. Сестры на балконе. 1820. Эрмитаж, Санкт-Петербург |
Дело не в том, кто оказывается у руля на то историческое мгновенье, пока его не отбросит от руля другая новоизбранная команда┘ а скорее всего порыв исторического ветра, от которого стадо шарахнется вспять. Михальский находит более убедительный образ: «Когда стадо поворачивается назад – хромые бараны идут впереди. Двадцатый век особенно убедительно проиллюстрировал эту восточную мудрость. Вся история человечества неоднократно свидетельствует о том, как стремительно, почти мгновенно собрание граждан может стать толпой, а толпа стадом». Как полукровка, двумя «нерусскими» корнями бесповоротно вросший в «русскость» – я солидарен с его пониманием русскости. Но при существенной оговорке. Нет у нас пришлых правителей, для которых народ – расходный материал, наши правители – сами исходный материал. И вербуются из народа, над которым оказываются временщиками. И народ терпит. Без головы еще хуже: схватит вслепую судьба за шкирку и потащит неведомо куда. Вчера этот начальник вешал плакат «Слава КПСС!». Сегодня вешает плакат: «Христос воскрес!». Пусть вешает. А нам – сидеть у окошка в роскошной вилле изгнания или временном бараке героического отечества и чувствовать себя в самом несчастном мире самым счастливым народом.
О счастье мы всегда лишь
вспоминаем,
А счастье всюду, может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
Да это ж Бунин! Великий русский поэт, ставший во Франции нобелевским лауреатом. Во Франции он и помер, вспоминая о родине и не решаясь вернуться. Нельзя ли кого-нибудь поближе в свидетели нынешнего состояния? Игорь Шкляревский, поэт и переводчик «Слова о полку Игореве»: «Определения «читательское счастье» я не встречал, но знаю, что оно не изменилось – уютный свет из лампы, ветер за окном и книга, классический роман Вацлава Михальского...» Читаешь классический роман и чувствуешь, как оживают, сплетаясь в памяти, разбитые судьбы своих и чужих, и выпрямляется душа в своей стихии – неубитой ауре русской культуры, в художественном плену характеров, надежд, судеб.
В своем плену.