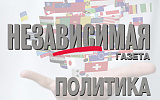Милорад Павич. Ящик для письменных принадлежностей. /Пер. с сербского Л.Савельевой. - СПб.: Азбука, 2000, 192 с.
В ЗАТЕЯННОМ "Азбукой" карманном собрании сочинений Павича, где пару месяцев назад вышли "Внутренняя сторона ветра" и "Последняя любовь в Константинополе", опубликован совсем недавний роман - "Ящик для письменных принадлежностей" (1999).
Каждый излюбленный павичевский прием, возведенный в романе в квадратную степень, свидетельствует о ситуации, которая, увы, не так уж редко случается - о превращении Мэтра в им же созданный Метод. Однако далеко не всякий патриарх готов создать из собственной осени элегию, а из самоповторения пусть наивную, но ловушку. Сейчас поясним, что мы имеем в виду.
Итак. Сербский классик, верный настойчивому стремлению придать праздному романному жанру утилитарно приемлемую форму - от словаря до гадальных карт, - создает роман-ящик. Каждый, кому когда-либо приходилось сталкиваться с ящиками - от Пандоры до телезрителя, - поймет, что это превосходный способ соединить абстрактное с конкретным, вербальное с телесным, информацию с образом, а счастье с несчастьем.
Далее. Известный писатель М. при загадочных обстоятельствах приобретает переносной ящик для письменных принадлежностей, чертит план уровней и отсеков, и, как это свойственно писателям, начинает описывать. Ящик снизу доверху набит просвечивающими предметами, которые ранее принадлежали неизвестно кому. Читатель, привыкший числить Павича мастером гипертекста, предвкушает почти буквальный литературный аналог компьютерной бродилки, с поиском полезных вещей, разгадыванием секретов и проникновением в дальние закоулки системы.
Однако Павич вскользь упоминает о, возможно, необнаруженных закутках, наскоро разделывается со всеми этими зубочистками, колечками, перчатками, трубками и палочками для раскраски ступней, чтобы перейти к самому главному - к истории, к повествованию. Под рукой оказываются исписанные мелким почерком открытки, дневник, магнитофонная запись, и, наконец, "листы из какой-то книги". Все эти улики обнаруживаются последовательно, чтобы составить линейный, непротиворечивый, хронологически выстроенный сюжет.
Конечно, не обходится без отсылок и аллюзий - персонажи носят библейские имена, разыгрывают сценки из античных мифов, двоятся и множатся, как племенные герои. Персонаж подчинен всем мыслимым законам одновременно: он и аллегория, и символ, и обнаженный экзистенциальный нерв.
В результате, несмотря на хронологическую связность, текст, разложенный по разным отделениям ящика для письменных принадлежностей, должен восприниматься как несколько разных историй, происходящих с несколькими разными людьми. В то же время не связанные на первый взгляд предметы, среди которых не остается ни одной случайной, не утилизованной для нужд повествования зубочистки, складываются в целостную, единую историю. Каждая находка, каждый сувенир, включая сам ящик для письменных принадлежностей, продублирован в дневниковых, магнитофонных и прочих записях. Книга есть ящик, ящик есть книга, текст материален, материя текстуальна, бесконечность замкнута, а замкнутость бесконечна.
Игра, в которую Павич играет со своими давними почитателями, - гипермолчание. Любая коннотация отсылает к началу поиска: Мужчина и Женщина - см. Адам, Ева, Лилит; Европа и Балканы - см. похищение Европы; Любовь и Война - см. Война и Любовь. Каждая гиперссылка - тупик: то предлагается перелистать "Хазарский словарь", то упоминается загадочный интернетовский адрес, который на поверку оказывается, естественно, павичевским. Соус, в котором подержали рубин, капли быстрые и медленные, тарелки с зеркальным дном - не что иное, как режущие глаз ссылки на автора, который безмолвствует. В это время он прячется, закрывая ладонями лицо, и, перечисляя предметы, наивно не замечает совпадений.
Так вот. Сербский эмигрант Тимофей, забывший родной язык и не пахнущий ничем, даже потом, берет в морское путешествие ящик с воспоминаниями. Если воспоминания от долгого вспоминания утрачивают какой бы то ни было смысл, остается умилительный уют полочек и выдвижных отсеков. А это, как сказала бы Драгиня Рамадански, написавшая послесловие к роману, "хорошо известная особенность образности Павича, когда поэтема становится семемой, когда инвентарь реликвария становится гомологоном человеческой души".