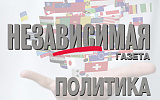Борис Поплавский. Сочинения/ Общ. ред., предисл. и коммент. С.А. Ивановой. - СПб.: Летний сад, изд-во журнала "Нева", 199, 448 с.
CИНЕМУ томику, украшенному - как пароход или мавзолей - лаконичной надписью "ПОПЛАВСКИЙ" предшествует пять стихотворных сборников, вышедших в отечественных издательствах за последние несколько лет (прибавьте опубликованные дневники и прозу). Таким образом, под словами "неизвестный Поплавский" все чаще подразумевается уже не читательская неосведомленность, а проделанная работа с архивами.
Издательство "Летний сад - Нева" попыталось объединить более и менее известные стихотворения под одной обложкой. "Флаги", "Снежный час", "В Венке из воска", "Дирижабль неизвестного направления" - книги, знакомые российским читателям по лишенному справочного аппарата "водолеевскому" сборнику (1997). Они дополнены юношескими стихами ("Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма", "Христианское издательство", 1996). Кроме того, в собрание включены ранние футуристско-сюрреалистические эксперименты со ссылкой на выпущенные "Гилеей" "Покушение с негодными средствами" (1997) и "Дадафонию" (1999). Составители не успели учесть недавнюю архивную находку - папку с "Автоматическими стихами" ("Согласие", 1996), однако часть сделанных с подсознания "слепков" все же дублируется в "Дневнике Аполлона Безобразова", который в собрание вошел. Некоторые черновые наброски и варианты заимствованы из российской и эмигрантской периодики. Окончательно разобраться в сложной системе издательских отсылок позволяют комментарии и предисловие Светланы Ивановой, которая подготовила к печати антологию поэзии того самого труднопроизносимого младшего поколения русской эмиграции первой волны, наиболее характерным представителем которого и принято считать Поплавского ("Русская Атлантида", "Интрада", 1998).
Об этом, переведя дух, и поговорим подробнее. Статус Поплавского, с одной стороны, вроде бы четко определен, с другой - как-то подозрительно неустойчив. Немногочисленные исследователи отчего-то активно занимаются апологией, то погружаясь в дебри беспорядочной начитанности "русского Рембо" (теософия-философия-мистика-софистика-кабалистика), то повторяя как скороговорку схему возможных влияний (символизм-сюрреализм-Бодлер-Аполлинер-Бретон-Лотреамон), то чуть не через запятую перечисляя ингредиенты похожих друг на друга стихотворений (ангелы-корабли-флаги-башни-цари-фонари).
Всякий раз язык Поплавского покоряет металитературные пространства, напрочь вытесняя опыт, накопленный филологией за истекший век, и наделяя интерпретацию тем сладковатым привкусом дилетантизма и графомании, по которому можно безошибочно распознать руку интерпретируемого мастера.
Доподлинно известно, как Поплавский воспринимал мироустройство, собственную нищету, проблему наркотиков и назначение литературы. Но чем отчетливее вырисовывается образ полуголодного ересиарха, который фиксирует на бумаге собственные духовные упражнения, тем более расплывчатым кажется контекст, а ситуация - неуместней.
Между тем Поплавский действительно экспериментировал над собой - в противоположность предшественникам и современникам, экспериментирующим со словом. Текст, который царапается о границы мира, - не способ достичь некоего предельного состояния. Скорее - подробный отчет о предельном состоянии, достигнутом при помощи других, внелитературных техник.
Лучшие стихотворения Поплавского воспроизводят одно и то же видение, смерть распознается по голосу, замедленному дыханию, падению снега, глаголу в имперфекте и существительному во множественном числе:
Все было тихо, солнце
заходило,
Хотелось все запомнить
не дыша
У воинов в глазах рябило,
И пробужденье чуяла душа.
Воины, корабли, ангелы и прочие взаимозаменяемые персонажи то подчеркнуто одиноки, то неопределенно-множественны, как лишенная четкости галлюцинация. Грамматика не имеет значения.
Многочисленные синтаксические, орфографические и стилистические сбои - той же природы. Неправильные ударения и исковерканные суффиксы одинаково успешно могут объясняться эмигрантским двуязычием - или наличием осознанной авторской стратегии. Языковые нормы и погрешности, славянизмы и галлицизмы не менее равноценны, чем переплетенные в воспаленном сознании имена средневековых мистиков и восточных мудрецов. При этом эклектика - далеко не повод к игре. Циничная ирония и наивная рефлексия тоже уравнены в правах и сосуществуют почти не смешиваясь, как если бы Хармс и Блок взялись вместе играть в буриме:
Садится дева на весы
Свой задний вес узнать желая
И сходит человек в часы
Из вечности, то есть из рая.
Но стоит только признать за стихотворениями Поплавского роль "путевых заметок", "дневника" или "предсмертных слов", как они мгновенно утрачивают интерес и притягательность. Интрига существует лишь до тех пор, пока отношения между "литературностью" и "подлинностью" напряжены до предела, но до конца не выяснены, а давний спор между Ходасевичем и Адамовичем - не завершен.
Поддерживая волнующее ощущение неопределенности, непредсказуемости и неполноценности, Поплавский использует классически-"литературные" ходы и стандарты. Аффективность поведения и экзальтированность интонаций выдерживаются в лучших романтических традициях. Как подлинный поэт, Поплавский конструирует собственную биографию и охотно примеряет маски, однако лишь те, что позволяют почти полностью стереть границы индивидуальности - как неснимаемые темные очки или гора мускулов на некогда тщедушном теле.
Точно так же выявляется и стирается значение слов, снов, всего, во что можно облечь пережитые мгновения иллюминации. Символизируя реальность и реализуя символы - при условии настойчивости и одновременности обоих действий, - стихотворения Поплавского достигают того неповторимого, близкого к короткому замыканию эффекта, о котором Набоков написал в раздраженной рецензии на "Флаги": "О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни..." Вот звучит это - ничего не поделаешь, звучит - а ведь какая бессмыслица..."