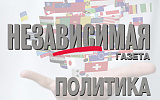Дино Буццати. Татарская пустыня / Предисл. Х.Л. Борхеса. Пер. с итал. Ф. Двин. - Спб.: Амфора, 1999, 302 с. ("Личная библиотека Борхеса").
АМФОРОВСКОЕ издание "Личной библиотеки Борхеса" пришлось кстати не только в связи со столетним юбилеем аргентинского библиотекаря. Борхес, отбирая книги для названной его именем серии, руководствовался сознательно нерефлектируемым принципом читательской симпатии - "чудесная тайна, расшифровать которую не под силу ни психологии, ни риторике". В переполненном ночными страхами метро куда как уместен томик карманного формата, поглощающий внимание сразу, без остатка и неизвестно по какой причине.
"Татарская пустыня" (1940) Дино Буццати уравнивает предельную скуку и предельное любопытство, ожидание и неожиданность, превращая их в одну бескрайнюю - из песка и гальки - поверхность.
Конструкция романа призвана производить впечатление полностью застрахованной от каких бы то ни было неожиданностей: сюжетный минимализм, доведенный почти до абсурда, стилистическая узнаваемость (смесь Кафки и Эдгара По), прозрачность аллегорий, коллективная бессознательность символов и бесконечное ожидание в качестве темы.
Молодой офицер Джованни Дрого отправляется к месту первого назначения - в Богом забытую пограничную Крепость Бастиани. Там он и проводит свои дни в бесплодных надеждах, чтобы в момент их осуществления умереть за пределами Крепости, в заштатном дешевом трактире. Такова жизнь: об этом свидетельствуют знаки и прямые указания на первых же страницах романа, повествование не успевает начаться, как тайна уже разгадана: "Чары старой Крепости рассеялись с поразительной легкостью. Но... почему Дрого охватило вдруг желание насвистать какой-нибудь мотивчик, глотнуть вина, выйти на свежий воздух? Может, ему надо было доказать самому себе, что он действительно свободен и спокоен?"
Саспенс и безнадежная очевидность нарастают одновременно, перебивая друг друга, переговариваясь, как солдаты, выкликающие пароль: "Чудо". - "Чучело", - отозвался часовой и приставил винтовку к ноге", - так, что невозможно отличить предчувствие от привычки, красоту от комфорта, боль от болезни, загадку от западни.
Буццати позаботился о том, чтобы тщательно разметить пространство и время, ввести в роман самые актуальные характеристики - крепость, пустыня, граница, часы, календарь. Персонажам, размещенным в этих пределах, не перепало почти ничего - ни События, ни Характера, - только воинское звание, выкроенный строго по уставу мундир и ожидание Противника. И свобода самостоятельно собирать судьбу из невыразительных обмолвок и случайных образов.
Интересовавшая Музиля формула романного героя без свойств у Буццати связывается с почти абсолютной неподвижностью. Подвиг неподвижен, как лейтенант Ангустина, который замерз, играя сам с собой в карты под снегом, но не упал духом перед воображаемым врагом.
В этот момент читатель, неподвижно устроившийся в кресле, попадает в западню предложенной Буццати загадки. То, что легко принять за слишком поспешное удовлетворение читательских ожиданий, оказывается ходом не менее обманчивым, чем уговоры остаться в Крепости месяца на четыре, до ближайшего медицинского осмотра. Поддавшись ощущению полностью контролируемого смысла, вы будете втянуты в Ожидание без границ, поскольку процесс смыcлонаделения, как мы помним, закреплен за персонажами, вглядывающимися в туманную даль пустыни с тем же неподвижным ожиданием.
Не игра с пространством, не панический страх перед временем, достойный подростковых метаний или кризиса среднего возраста, побуждают в один присест дочитывать книгу до предсказуемого конца.
Бездействие, неопределенность и одиночество притягивают в гораздо большей степени, так как, уравнивая читателя и персонажа, преподносятся в качестве единственного способа победить злополучное время. Буццати искривляет пространство, чтобы сместить точку зрения, пускает время по кругу, чтобы столкнуть двойников и вновь обнаружить ничуть не затронутое повествованием и судьбой одиночество, преисполненное нерастраченных сил для достойной встречи со смертью. "Бедный Дрого, - подумал он, сознавая, сколь странно это определение, но, в конце концов, он ведь действительно один на всем белом свете, кто еще его пожалеет, если не он сам?"