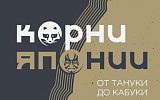Гинзбург К. Мифы - эмблемы - приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с ит. и послесловие С.Л. Козлова. - М.: Новое издательство, 2004, 348 с.
Карло Гинзбург - живой классик, адепт так называемой "микроистории", одного из самых амбициозных направлений исторической мысли позднего ХХ века.
Мировая слава Гинзбурга началась с книги "Сыр и черви" (1976, русский перевод 2000) - исследования, посвященного судьбе мельника-мыслителя, жившего в XVI веке и погубленного инквизицией за вольнодумство. Написал он немало и продолжает писать, но сборник "Мифы - эмблемы - приметы" (изданный у нас в том же составе, что и по-итальянски, с добавлением статьи "Микроистория: 2-3 вещи, которые я о ней знаю" да предисловия, написанного для русского издания) представляет Гинзбурга as it is.
Тематический разброс настолько велик, что с первого взгляда и не поймешь, на каком, собственно, принципе все это строится. Инквизиционный процесс над провинциальной итальянской колдуньей XVI века. Сразу вслед за этим - заметки об искусствоведческой школе Аби Варбурга. Затем - о том, как в разные эпохи переводили и толковали одну-единственную евангельскую фразу. Далее - на какие литературные источники опирался Тициан, создавая свои картины┘ Историю чего он таким образом пишет?
Карло Гинзбург начинал свой путь исследователя в 1960-е, когда традиционный, в ХIХ веке сложившийся историзм (сосредоточенность на одном, пронизывающем и подчиняющем себе все события историческом сюжете - Нарративе) переживался как окончательно исчерпанный. Большие Нарративы лишились убедительности, и многообразию знаний о прошлом оказалось не на чем держаться. Вопрос, как видеть историю и описывать исторические события, оказался тем более актуален, что вменяемых ответов не было. По сути, их нет и сейчас. Но задачу писать историю никто не отменял. И что прикажете делать?
В результате ХХ век оказался переполнен проектами и опытами переустройства исторической науки. История-де ни в какой глобальный сюжет не вписывается, объявили постмодернисты, а попытки туда ее впихнуть не приведут ни к чему, кроме искажений. Историк более не может быть судьей, поскольку нет норм и законов. Более того, само существование исторической реальности под вопросом. На смену ей пришли "ментальности", "практики", "техники", которые, в свою очередь, не репрезентируют ничего, кроме самих себя. Некогда единая История рассыпается на фрагменты.
Гинзбург тоже не ищет опоры в глобальных исторических сюжетах. Подобно множеству современников, он внимателен к индивидуальному, частному, из всех, казалось бы, рамок и правил выбивающемуся случаю. Но внимателен очень по-своему.
Он активно ищет в истории связности и цельности - и даже находит их, хотя и на других путях, чем те, что предлагались Большими Нарративами. Эти связность и цельность, утверждает он, образуются живучестью культурных форм вне привычных контекстов. Потому он и пишет о "выживаемости" образов латинской мифологии и классической поэзии - в сборниках эмблем (и в эротическом воображении) раннего Нового времени ("Тициан, Овидий и коды эротической образности в ХVI веке"), фольклорных представлений - в снах и невротических симптомах ("Фрейд, человек-волк и оборотни"), мифологических матриц - внутри идеологических построений ("Германская мифология и нацизм"), способа выслеживания добычи первобытными охотниками - у гуманитариев ХХ века ("Приметы"), наконец - о трансформации словечка "микроистория".
Частные случаи интересуют его не сами по себе. О чем бы Гинзбург ни писал, он, в сущности, ведет речь всегда об одном: о том, как в "мелком", "незначительном", "случайном" проявляется Большое и Главное. И выходит, что буквально все имеет отношение к Главному. Что у истории нет столбовой дороги. Все дороги столбовые, даже едва приметные тропки.
Любая мелочь и случайность, показывает Гинзбург, может быть увидена как отпечаток крупных смысловых процессов. Лишь они делают эту мелочь возможной - и лишь поэтому возможна та самая "уликовая парадигма" (реконструирование явлений по побочным признакам), формулировкой которой прославился автор.
Однако мелочи ни в коей мере не самодостаточны. Они приобретают значение и начинают работать лишь от предположения о некоем Целом, частями которого являются. Иными словами, "уликовая парадигма" работает, лишь когда мы заранее знаем, что, где и как ищем. То есть когда мы это уже в каком-то смысле нашли.
История, говорит Гинзбург, возвращается к тому, с чего и начиналась в античные времена: "к событиям и индивидам", - обогащенная горьким знанием об "обманчивой натуре большого исторического нарратива" и "пониманием фрагментарности доступного нам знания".
На самом-то деле история возвращается все в тот же историзм - хотя и с черного хода. В то время как парадный подъезд Единого исторического Нарратива забит досками, черный ход превращается потихоньку в удобный, в привычный, так что его и черным-то не назовешь.