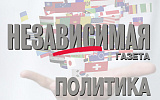Елена Петровская. Антифотография. - М.: Три квадрата, 2003, 112 с.
История страны / История кино / Под ред. С.Секеринского. - М.: Знак, 2004, 496 с.
Две очень разные книги. Одна - про фотографию. Про полароиды, мыльницы, профессиональные постановочные и непостановочные снимки. Вторая - про кинематограф. Про "немые" фильмы, про монтажные трюки и смену амплуа героев-любовников. Первая написана единолично - философом Еленой Петровской. Другая - целым коллективом научных работников, преимущественно историками, реже - искусствоведами, еще реже - филологами. Да и по стилю эти издания совсем не похожи. У Петровской язык постмодернистски изощренный, изобилует складками и непереводимой игрой иноязычных гуманитарных терминов. В книжке про кино, напротив, повествование гладко стелется от статьи к статье без стилистических перепадов, так что при сплошном чтении вообще не замечаешь смены пера - все индивидуальные речевые особенности нивелированы безупречной академической риторикой. "Антифотография" - для гурманов от философии и "visual studies". "История страны..." - для студентов, преподавателей и, что называется, широкого круга читателей.
Правда, есть одно очень существенное свойство, которое делает обе книги до странности похожими. Обе - не о том, что вынесено в название. То есть первая - не о фотографии, а вторая - не о кино. "О чем же тогда?" - спросите вы. Елена Петровская может ответить сама за себя: "Речь пойдет о том, куда нас выводит фотография, одновременно столь распространенная и уже во многом устаревшая. Фотография является предлогом, но точно так же рамкой для разговора о других вещах - вещах, безусловно, с ней сопряженных и вместе с тем проявляющих себя и в иных, по сравнению с фото, режимах. Мы имеем в виду прежде всего неощутимое измерение повседневности, саму банальность будней". А за коллектив авторов, краткости ради, скажем мы. Их труд о том, из чего вышел отечественный кинематограф. То есть об истории страны, о тех культурных, политических, экономических, социопсихологических и прочих обстоятельствах, в которых рождались и умирали кинофильмы. Теперь они, как старожилы, должны поведать нам о делах давно минувших дней. Чем и объясняется засилье историков в сугубо искусствоведческой, казалось бы, сфере.
Замысел, как видим, прост. Зато результат очень эффектен. Особенно во втором случае. Сборник "История страны / История кино" действительно двусторонний. В нем можно читать об ажиотаже вокруг Распутина, подростковой проституции в эпоху Октябрьской революции, маниакальных поисках внутреннего врага в 30-40-е, послевоенном колхозном укладе, интеллигентских фрустрациях эпохи застоя, третьей волне криминализации в постперестроечную эпоху. А можно посмотреть на те же тексты сквозь призму эстетики. Тогда в сборнике будет рассказываться о коммерческом кинопрокате 10-х гг., монтажных революциях Сергея Эйзенштейна, сценарных находках в "Семнадцати мгновениях весны" и "зеркальных лабиринтах" Андрея Тарковского. Элементарно, как лента Мебиуса.
В "Антифотографии" Елены Петровской все очень похоже, но, впрочем, не так очевидно. Предмет ее поисков - нечто аморфное, постоянно исчезающее и постоянно присутствующее, некий надындивидуальный аффект, клише, массовый стереотип, которому подвержены все члены общества независимо от половых, возрастных, национальных, религиозных и прочих отличий. Это клише неуловимо, потому что вседовлеюще. Оно - на бытовых снимках мыльницой, в рекламных роликах, в модных фотографиях. Любимые фотографы Петровской - те, кто, подобно американской фотохудожнице Синди Шерман, умудряется поймать этот стереотип за хвост. В ее многочисленных "неназванных" кадрах зритель силится узнать какой-то виденный им фильм или "ну, вот, как его там, вылетело из головы, там еще эта, блондинка┘" На самом же деле такого фильма не было и в помине. Гениальная интуиция Шерман, по мысли Петровской, в том и состояла, что она смогла зафиксировать банальность, да не просто зафиксировать, а заставить ее выдать себя с головой, со всей своей "массовой психологией".
Короче говоря, на поверку выходит, что Елена Петровская и авторы коллективной монографии имеют в виду одно и то же! И там и тут главным героем научных изысканий оказывается пресловутое коллективное бессознательное, как бы его ни называли - "общее чувство", "синдром поколения" или "массовый психоз". И там и тут на первый план выводится то, что обычно остается за кадром: полунамеки, полуцитаты, табуированный жест, устаревшая привычка, бытовой контекст. А еще и в том и в другом случае художественность приносится в жертву новой документальности: истина искусства оказывается там, где правда жизни. Как ни банально это звучит.












.jpg)