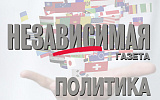Бруно Монсенжон. Глен Гульд. Нет, я не эксцентрик! - М.: Классика-XXI, 2003, 272 с.
Вот уже и вторая книга французского кинорежиссера Бруно Монсенжона переведена на русский язык. Первая вышла в той же Классике-XXI около года тому назад и произвела бум среди меломанов. Она была посвящена Святославу Рихтеру, что само по себе уже служило верной рекламой: Рихтер, как известно, отличался особенной нелюбезностью по отношению к музыкальным критикам и журналистам, и Монсенжон был единственным, кого пианист сподобил приобщиться его музыкальных и биографических тайн. Судьба издания о Глене Гульде обещает быть еще более успешной на российском книжном рынке. Как-никак это первая книга о знаменитом канадском пианисте, изданная в нашей стране.

Казалось бы, в случае Глена Гульда у Монсенжона была менее каверзная задача, чем раскрутить на исповедь Маэстро из России. Гульд никогда не чурался интервью, не то чтобы охотно, но все-таки подробно рассказывал о своем детстве и профессиональном кредо. Однако это была псевдодоступность. Есть глубокая правда в том, что фотография Гульда, которой украшена обложка только что выпущенного в свет издания, перевернута вверх ногами. Все в этом человеке было необычно, экстраординарно. Все - против правил. И судить о Гульде с общепринятых точек зрения, мерить его общечеловеческим мерилом, значит судить о нем превратно. В этой перспективе Гульд непременно выйдет в лучшем случае эксцентриком, в худшем - психом, как назвал его однажды знаменитый британский дирижер Джородж Сэлл. Даже неопровержимая гениальность не спасала Гульда от пересудов толпы о странностях его поведения.
Странностей в его характере действительно было предостаточно. Скажем, за роялем сидел не так, как принято во всем мире, а на двадцать сантиметров ниже; играл он, утыкаясь носом в клавиатуру, словно зерно клевал. Десять лет возил за собой один и тот же стул. Ставил рояль на деревянные подпорки. Жил анахоретом. Называл себя пианистом-любителем и концертной рутиной тяготился. В тридцать два года навсегда ушел со сцены и еще двадцать лет занимался исключительно студийной записью. Какой концертирующий музыкант способен на подобный акт отречения? А уж суждения Гульда о музыке вообще ни на что не похожи! Например, он утверждал, что живой концерт убивает музыкальное произведение и что к 2000-му году публичное музицирование вообще выйдет из практики. Возмущался, когда критерием исполнительской безупречности называли умение сыграть произведение от начала до конца без единой помарки. Признавался, что в иных его записях число склеек доходит до тридцати и более. И к тому же считал, что ничто, никакая даже самая вдохновенная интерпретация не вечна под луной: "Все эти люди живут иллюзорной верой в то, что воспоминания об отдельно взятом моменте свято, что мгновение истории можно увековечить. Это все очень мило, но это иллюзия. Жизнь не так проста. Музыка тоже, слава богу".
Хорошо все-таки, что эти реплики звучат от первого лица. Примись Монсенжон за неблагодарный труд пересказчика, его бы непременно заподозрили в извращении образа великого музыканта ради скандальной славы. Но Монсенжон отвел себе скромную роль свидетельствующего. В предисловии он так и заявил: "Да позволено мне будет, по примеру евангелистов, доказать мою горячую веру - веру того, кто видел события, свидетельствует о них и знает, что свидетельства его истинны". Монсенжон хоть и был знаком с Гульдом около десяти лет, хоть и состоял с ним в доверительных отношениях, но в друзья к музыканту не набивался. Он только и сделал, что снял вместе с Гульдом фильм о "Гольдберг-вариациях", а потом, уже после смерти пианиста, собрал его интервью, некоторые беседы, отдельные реплики и, смонтировав их умелой рукой режиссера, издал отдельной книжкой, которая в силу своей особой композиции, особой размерности неоспоримо доказывает, что все парадоксальные стороны личности Гульда не имеют ничего общего с дешевой эксцентрикой.
Апостольский пиетет Монсенжона можно понять. Мировоззрение Гульда завораживает так же, как наркотически действует абсолютная контрапунктическая прозрачность его игры. Гульд был немногословен, далек от морализма, но он был философом, и его образ жизни последовательно воплощал его образ мыслей. Стоит только осознать, насколько далек был Гульд от общепринятой практики считать искусство формой артистического самовыражения, и все встает на свои места: и уход со сцены, и маниакальная работа в студиях звукозаписи, и представление о себе как о композиторе в первую очередь, а пианисте - во вторую. Эстетика Гульда сродни теологии. Он искал в музыке не себя и даже не аутентичный композиторский замысел. Он искал универсальности и находил ее в Бахе и Шенберге или, если угодно, вместе с Бахом и Шенбергом. И весь секрет пресловутой гульдовской эксцентричности заключается в одном-единственном правиле, сформулированном им просто и ясно: "Чтобы достичь универсальности, надо освободиться от бремени истории, от конформизма, которого требует каждая эпоха". Имеющий уши, да услышит...
Главная заслуга Монсенжона в том и состоит, что он нашел правильную масштабность, единственно подходящий фокус, позволяющий Гульду выйти за границы нормативной гениальности нашей эпохи и предстать перед читателями в его родной стихии - в стихии музыки, - и быть тем, кем он на самом деле был - больше чем музыкой.