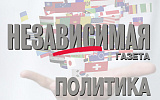- Можно ли объединить эти интервью под знаком какого-то одного философского направления, скажем, постмодернизма?
- Прежде всего я хотел бы заметить, что это не интервью, а беседы. Это другой жанр. Все-таки интервью - это когда кто-то приходит заведомо выслушать мнение другого. Его же собственное мнение остается за кадром. Беседа в отличие от интервью - это когда ты слушаешь другого, а тот в какой-то мере слышит тебя. В основном эти тексты принадлежат к жанру бесед.
- Это значит, что с каждым из ваших собеседников вы были уже давно знакомы?
- Естественно. За исключением Славоя Жижека, с которым мы познакомились в Веймаре. А остальные - это либо друзья, либо хорошие знакомые. Наши беседы - это не просто обсуждение их книг. Я стараюсь вывести их на темы, о которых они, как правило, не писали. Это, например, вопросы, связанные с Советским Союзом, сталинской системой. Это и есть тот второй голос, который превращает интервью в беседу. Это первое. Что касается того, что их объединяет, и постмодернизма, то вообще для французских философов, с которыми я по преимуществу беседовал, слово "постмодернизм" - слишком общая шапка. Действительно, под нее подходит не только французская философия, под нее подходят Энди Уорхол, Джон Кэйдж, Джеф Кунс и многие-многие другие. Работа же тех, с кем довелось побеседовать мне, более частная и конкретная. Есть очень важные точки размежевания внутри самого философского контекста, которые в случае признания общего названия "постмодернизм", просто исчезают. Что касается того, что этих людей объединяет, то я бы так сказал: эти люди хорошо знают работы друг друга. Если вы заметили, книга начинается с вопросов к Деррида и завершается беседой с Гройсом, который тоже очень много говорит о деконструкции и Деррида. Деррида вообще является центральной фигурой всей книги, если не считать такой "фигуры отсутствия", как Жиль Делез.
То есть мне довелось говорить с философами, принадлежащими к двум основным философским школам. Не случайно я назвал книгу "Деконструкция и деструкция". Одна из этих школ - это Жак Деррида, Жан-Люк Нанси, Филипп Лаку-Лабарт, основные представители деконструктивизма. Вторая школа - это шизоанализ, который связывается с именами Жиля Делеза, Феликса Гватари; к этой традиции близок Бодрийяр. С другой стороны, Рорти - философ, который очень много работает с текстами Деррида, но на которого работы Делеза почти никакого впечатления не произвели. Так что рамки книги заданы этими двумя концепциями. Обе они исторически укоренены в метафизике. Разница между ними состоит в отношении к традиции. Если деконструкция считает, что традиция есть нечто абсолютно несводимое, то точка зрения Делеза состоит в том, что есть "малые философии", которые изначально находятся внутри метафизики и которые подрывают эту традицию.
- Лично вы к какой школе тяготеете?
- Это очень сложный вопрос. Я еще в студенчестве начал читать французских авторов. Когда я читал тексты, мне был ближе Делез. Но когда я был во Франции, я какое-то время работал с Деррида. И реально на меня повлиял Деррида. В этом смысле я в достаточно зрелом возрасте пережил существенную смену ориентиров.
- В чем это выражалось?
- Скажем так. Я лучше понял деконструкцию, когда мне довелось беседовать с Деррида и его ближайшими учениками.
- Как изменилось ваше понимание деконструкции?
- Деррида - один из редких людей, которые очень серьезно относятся к преподаванию философии. Он много сил вкладывает не просто в написание книг, а в чтение лекций, проведение семинаров, в личные беседы. И поскольку я около года работал у него в семинаре, постепенно я стал лучше понимать такие слова, как "след", "голос", "различие" и так далее. Через устное общение с Деррида я понял, что его точка зрения в гораздо большей степени укоренена в традиции и продуктивна, чем я мог бы это понять из чтения его книг.
- То есть на вас повлияло именно устное общение?
- Да, безусловно.
- Тогда такой вопрос. Не секрет, что многие тексты Деррида и Делеза очень сложны для понимания. Может ли в таком случае неофит в философии рассчитывать на более-менее адекватное восприятие этих текстов при чтении или же это совершенно гиблое дело?
- В принципе с такими философами, как Жак Деррида или Мераб Мамардашвили, желательно общаться лично. Я повторяю - желательно. Очень многое можно и из книг понять, но эти люди очень страстно и творчески относятся к живой традиции передачи философии. Таков, кстати, видимо, был Хайдеггер, и я не случайно говорю, что Деррида некоторым линиям Хайдеггера следует. Вот Бодрийяр, наоборот, не любит преподавать, не придает этому большого значения.
- Ну а как вы объясните чрезмерную сложность некоторых французских текстов, которые скорее могут ввести в заблуждение, чем что-то прояснить?
- Я не знаю, почему вы считаете тексты французских авторов сложными. Есть тексты, например "Спиноза" Делеза, которые очень просты для понимания, хотя для этого требуется некоторая подготовка.
- Подготовка какого рода?
- Знание хоть в какой-то мере истории философии. Либо навыки чтения достаточно продвинутой литературы типа Пруста, Кафки, Набокова, Джойса. Либо знание стратегий современного искусства.
- То есть вы хотите сказать, что для того, чтобы приобщиться к текстам французских философов, нужно быть погруженным в какой-то контекст? Нельзя начать философствовать с нуля, не будучи отягощенным культурой, но задаваясь вопросами о бытии, о смысле жизни наконец?
- Все вопросы, которые вы будете себе задавать, уже укоренены в традиции, просто вы об этом не знаете. Философия - это просто умение читать определенные тексты.
- В таком случае если сначала необходимо освоить контекст, то когда имеет смысл начинать читать постмодернистских авторов?
- Я не могу сказать за всех, когда кому надо начинать их читать. Скажем, во Франции, при том что Деррида очень крупная фигура, его книги расходятся тиражом в несколько тысяч экземпляров. Семь-десять тысяч - это уже большой успех. И это при том, что во Франции философию изучают уже в лицеях. Я не уверен, что это литература массового спроса. Естественно, очень желательно, чтобы перед чтением Деррида люди уже имели представление о Платоне, Гегеле, Гуссерле. Хотя отдельные тексты Деррида можно читать и без этого.
- Насколько сейчас, на ваш взгляд, популярны идеи Деррида и Делеза? Может, пик увлечения этими философами уже прошел?
- Я так не думаю. Деррида очень популярен. Делез сейчас набирает международную известность. Но, конечно, они не так популярны, как Мадонна или Шварценеггер.
- Нет, я имею в виду, что сейчас в Америке и Европе очень мощная аналитическая традиция. Не считаете ли вы, что постмодернизм начинает уступать аналитической школе?
- Это вопрос очень сложный. Как я понял из разговора с тем же Рорти и другими людьми, которые с аналитической философией хорошо знакомы, это очень замкнутая философия, и никакая их знаменитость (за исключением, естественно, отца-основателя Виттгенштейна, который совсем не похож на современных аналитических философов) с Деррида по масштабам влияния не сравнится. Как раз Рорти сделал себе имя на критике аналитической философии и на доказательстве того, что континентальная философия может очень много дать тем, кто занимается философией языка.
- Какова вообще степень влияния философов на современное общество?
- В разных странах она разная. Во Франции философы очень влияли.
- Влияли или влияют?
- Влияли. Сейчас вы видите, что во Франции происходит. Лепен сделал неожиданные успехи, а это говорит о том, что влияние философов, которые на 90 процентов связаны с левой парадигмой, уже не такое, как во времена Сартра, Фуко, Делеза, Лиотара, Гватари и многих других. Среди молодых таких фигур пока нет. В Америке философия традиционно не играла большой политической роли. В России то же самое, здесь все вращалось вокруг литературы. Как раз сейчас в России философия имеет определенные шансы.
- С чем связаны такие перспективы?
- Дело в том, что русская литература сейчас переживает глубокую трансформацию, утрачивает центрирующую функцию. Думающие люди ищут ей какую-то альтернативу. Вместе с тем у читателя после бума переводов 90-х годов появилась возможность выбирать, что читать.
- Почему вы издали вашу книгу не в "Ad Marginem", а в "Логосе"?
- Потому что старый "Ad Marginem", одним из основателей которого я был, с моей точки зрения, больше не существует. Это совершенно новый проект, в котором участвуют люди, несовместимые с теми, кто этот проект начинал.