 Золотой век Руси-России. Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане». 1984
Золотой век Руси-России. Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане». 1984
Подведение итогов пушкинского года – самое скучное и неблагодарное занятие, потому что невозможно сказочное творчество гения обрисовать вот так – в формате статьи, оставив совсем без воды, подобно храброму портняжке из сказки братьев Гримм, что не испугался великана и в кулаке сжал сыр.
Не будет открытием сказать, что в ряде своих произведений Пушкин, используя национальный фольклор, создал бесподобные образцы литературной сказки. Его стихотворные сказки-небылицы вывели авторскую сказку России на качественно новый уровень, став золотым эталоном для следующих поколений литераторов. Пушкинские сказки-поэмы сыграли с нашей литературой злую шутку, ведь они до сих пор остаются непревзойденными. Читатели получили в свое распоряжение шедевры, но где следующие? Припоминаются сказки в стихах студента-сибиряка Петра Ершова (см. «НГ-EL» от 20.02.25) и уже в ХХ веке – волгаря Леонида Филатова. И пожалуй, все. Вот вам и первый парадокс гения.
«Сказки А.С. Пушкина – целая эпоха в истории авторской сказки, основа национальной литературно-сказочной традиции», – пишет современный исследователь Любовь Овчинникова, так будем использовать предложенное ею делением авторской сказки на фольклорно-литературные и индивидуально-авторские. Потому мы условно называем фольклорно-литературные небылицы пушкинскими, по имени автора, который вывел прозябающий на задворках литературы второстепенный жанр на недосягаемые высоты и сотворил волшебный мир. На примере творчества Пушкина видно, какой нелегкий путь проделал автор, чтобы создать несколько шедевров в «русском духе». Видимо, по этой причине в XX и XXI веках мы не находим подобных поэм-сказок, где поэты смогли бы подступить к пушкинским вершинам, отчего тяга читателей к подобным текстам ослабела.
А ныне ситуация еще тревожнее. Явись в современное издательство новый Пушкин, станут ли его печатать массовым тиражом? Едва ли. Начиная с начала 90-х годов XX века на книжные полки и развалы выплескивается массово-коммерческий тип сказкотворчества, часто опирающийся на необоснованное переосмысление традиций литературно-фольклорных отношений, вплоть до полной деконструкции. Подхватив у массовой литературы вирус многосерийности, отечественные издатели навязали авторам бесконечные сказочные сериалы про приключения котиков и песиков, эльфов и гномов, домовых и ведьм. Экономя абсолютно на всем, например, исключив из книг предисловия и сократив до минимума иллюстративный материал, издатели часто требуют во всем, начиная с имен героев и заканчивая именами самих литераторов, схожести с зарубежными творениями. Следует помнить, как после падения «железного занавеса» к нам хлынули произведения зарубежных авторов, сметя недостроенную плотину доморощенной сказочной литературы, которой до сих пор трудно конкурировать с западными образцами.
Советская цензура исчезла, но ее место заняла не менее ужасная конъюнктура рынка. В России она оказалась более бессердечной даже в сравнении с американской, о которой в эмиграции писал Сергей Довлатов: «Дома мы имели дело с идеологической конъектурой. Здесь мы имеем дело с конъектурой рынка, спроса. С гнетущей и непостижимой для беспечного литератора идеей рентабельности».
Ныне социальный заказ в основном формирует издатель, ссылаясь на спрос, то есть якобы на читательский вкус, твердя авторам, оберегающим традиции, мол, вашу «правильную» литературу никто не читает. И отчасти он прав, у ныне живущих читателей, верных поклонников пушкинской сказочной линии, банально отсутствуют средства на покупку книг, подскочивших в цене, как, впрочем, и у большинства библиотек, разбросанных от Чукотки до Калининграда. Потому так важен Пушкин-сказочник при работе с детьми и подростками, ведь его книги пока еще имеются в любой библиотеке и, будем надеяться, в большинстве семей России. Вот вам еще один парадокс – пушкинские сказки вместе с фольклорным творчеством стали последним бастионом перед все сметающим цунами массовой литературы.
На смену проверенной классике пришли исковерканные адаптированные тексты, отбивающее у читателя желание читать, примитивные формы самовыражения, портящие вкус читателя, суррогатные духовные ценности, деструктивное поведение и образ жизни. И вот здесь им противостоят сказки Пушкина как образец, развивающий вольно и невольно хороший вкус в поэзии и в культуре в целом.
Видимо, не случайно именно народом-читателем, а не критиками на престольное место гениального русского сказочника «избран» Александр Сергеевич. Ведь творчество поэта-сказочника пронизано любовью к отечеству, к родной природе от гор Кавказа до карельских скал и оренбургских степей, к народам, живущим на просторах России. Наши любимые пушкинские тексты наполнены неповторимой «гармонической правильностью», которая с эстетической стороны проявляется как почти нерукотворное совершенство, с философской – как беспристрастная объективность, а с нравственной – как проверенная в веках всеобъемлющая гуманность.
Иными словами, сказочные пути-дороги ведут читателей к истине, добру и красоте. И в этом нет ничего удивительного, ведь лучшие пушкинские сказки вышли из-под пера поэта в период наивысшего расцвета его творчества. Поэт долго искал свой путь освоения большой поэтической формы и язык, необходимый для этого. Сказку Пушкин рассматривал как большой эпический жанр литературы, а не просто поделку для потехи светского общества, как многие другие поэты. Александр Сергеевич смело вводил в поэзию фольклор и так называемое просторечье, создавая новый поэтический жанр с народным языком, что, кстати, роднит его с датским сказочником Хансом Кристианом Андерсеном. Одновременно наш гений совершил реформу литературного языка, положив в его основу речь книжной поэзии своей эпохи. Его лучшие сказочные произведения, такие как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», не переложение народных сказок, не просто подражание народному творчеству, а великолепно выполненные авторские истории, по своему характеру превосходящие народные образцы, но при этом ярко выражающие национальный дух.
Пушкинские сказки обогатили русскую литературу новым поэтическим жанром, а еще идеями народности и гуманизма, любви к семье и родине, умением создавать в сказочных текстах характерных конфликтов и персонажей. Поэт, подобно мифическому демиургу, росчерком пера сотворил волшебный мир русской сказки, который продолжает до сих пор жить-поживать во множестве кинолент, мультфильмов, на картинах художников, в образах декоративно-прикладного искусства, в душе и памяти любого человека, который хотя бы слегка прикоснулся к русскому миру.
И этот волшебный пушкинский мир (идейно-образная система) полон оптимизма и добра, чудес и фантастики в отличие от многих миров, созданных авторами до и после Пушкина, и, главное, разительно отличается от окружавшей его действительности. Поэт грезил той недостижимой для человека культурной сферой и рассмотрел ее в сказочном прошлом не только Руси, но и всего мира, понимая его неразрывное единство. Потому самозабвенно преображал иностранные тексты, к примеру, в сказку о золотой рыбке, превращая ее в русскую небылицу. Пушкин осознал, что подобный необычный жанр в его высоких образцах жизненно необходим читателям, даже целым народам, а духовная жизнь без него крайне убога. Подтверждение этих догадок можно увидеть в сонме литературных произведений, вышедших из сказаний о Нибелунгах, артуровского цикла, «Беофульфа».
Волшебная страна Пушкина целиком вошла в классику детской литературы, не став чужой и для взрослых, которые всю жизнь время от времени обращаются к ней, цитируют тексты и крылатые выражения из строф поэта. Хотя Пушкин творил для взрослой аудитории, но, как указал Корней Чуковский: «... Дети, к которым и не думал обращаться поэт, когда писал своего «Салтана», «Золотого петушка» и «Царевну», ввели их в свой духовный обиход и этим лишний раз доказали, что народная поэзия в высших своих достижениях часто бывает поэзией детской». Но особенно сказки Пушкина – пушкинская линия литературы – жизненно важны для детей и подростков как прививки и хорошее воспитание, они незаметно, на подсознательном уровне формируют не только язык ребенка или его воображение, они выковывают ясный и дорогой образ отчизны, земли предков, нравственные устои и, конечно, вкус.
К сожалению, далеко не каждый литератор способен стать достойным наставником своего читателя, а не сиюминутным кривлякой, предлагающим забавные кунштюки, которые забудутся через полчаса. Колоссальный талант часто – и великий воспитатель именно благодаря своим текстам и преодолениям в жизни и творчестве различных преград и помех, а не только сложной биографии. «Никто, решительно никто из русских поэтов не стяжал себе такого неоспоримого права быть воспитателем и юных, и возмужалых, и даже старых... читателей, как Пушкин, потому что мы не знаем на Руси более нравственного, при великости таланта, поэта, как Пушкин», – писал Виссарион Белинский.
Вероятно, одна из важнейших причин столь долгой и непрекращающейся популярности идеального, во многом фэнтезийного сказочного мира, с собственной атмосферой, созданного Пушкиным, кроется в том, что он воспринимается читателями как некий давным-давно миновавший «русский золотой век», или предельно ясный, до последнего листика или цветочка, «рай на земле». Сей хронотоп отсылает нас к русскому фольклору с его сказками и былинами, дорогими нашему сердцу.
Михаил Бахтин утверждал, в том числе на примере творчества Пушкина: «Произведение и изображенный в нем мир входят в реальный мир и обогащают его, и реальный мир входит в произведение и в изображенный в нем мир...» Не этот ли сказочный мир в какой-то мере подвиг архитекторов на создание стиля, ныне называемого неорусским, с его вниманием к древнерусскому зодчеству, деревянным постройкам Русского Севера, народному искусству с его эпической поэтикой художественных образов, искусству Византии? А в 20–30-е годы XX века вчерашние крестьяне-иконописцы их Холуя и Палеха обратили свой взор именно к сказкам Пушкин и его последователей Петра Ершова, Павла Бажова, щедро черпая образы и мизансцены для своих творений, которые ныне тоже стали классикой и выставлены в музеях. Особенно здесь посчастливилось Нижегородской земле с ее городецкой росписью, где нередко встречаются пушкинские герои. А еще Болдину, где под присмотром холерных постов родились на свет одни из лучших сказок национального гения – «Сказка о попе и о работнике его Балде» (13 сентября 1830 года), «Сказка о рыбаке и рыбке» (2 октября 1833 года), «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833), а на следующий год «Сказка о золотом петушке».
Ценность пушкинского сказочного мира в том, что во многом он противостоит другим творческим мирам, созданным поэтом, например онегинскому. Но главное для нас – он противоположен большинству миров, что сотворила русская литература в последующее, «послепушкинское время». Например, Василий Розанов в бурном 1918 году одним из первых мыслителей, воочию увидев, что случилось со страной, просто-напросто обвинил русскую литературу в разрушении «обаяния власти», авторитета самодержавия и самой Руси-России, длительном формировании мотива участия простого народа в революционной деятельности. Далеко за примерами ходить не стоит, достаточно вспомнить Николая Некрасова, Александра Герцена, Николая Чернышевского и других литераторов. У юного и не только читателя подспудно складывается образ России как нищей и убогой страны с навсегда утраченными нравственными ценностями, неких вечных лузеров на мировых задворках... А на страницах пушкинского сказочного мира в противоположность бесконечной «серости» и «убогости» мы встречаем высокие нравственные идеалы, достойных хранителей национальных ценностей и святынь, и все это поддерживается восхитительной поэзией, оставляющей неизгладимый след в душе.
Время показало, что человек не способен подпитывать свои душевные силы только чувством вины и тотальным отрицанием окружающей действительности или прошлого страны, людям как свежий воздух требуется положительный идеал, который в минуту трудности или даже невыносимого горя пошлет любому частицу добра и надежды – пушкинские сказки из этого ряда. Пушкинская волшебная страна ненавязчиво, исподволь воспитывает поколение за поколением, формируя вкус, язык, нравственные и эстетические ценности. Существование русского мира невозможно без сказочного наследия Пушкина. Убери этот краеугольный камень, да еще остатки национальных фольклоров наших народов и классику, и вся русская цивилизация зашатается при первом землетрясении. Не зря в первую очередь пушкинские творения подвергались гонениям и осуждению именно в переломные эпохи, а книги, как и его памятники, и поныне уничтожаются и, видимо, еще не раз будут стираться с лица земли.
Заканчивая разговор о сказочной вселенной Пушкина, сами собой припоминаются слова писателя и по совместительству библиотекаря Хорхе Луиса Борхеса, и с ним трудно не согласиться: «Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продумано, неизбежно и глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования».
Серпухов





























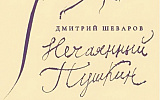
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать