
|
|
Гоголь считал, что в жизни необходима змеиная мудрость. Фото автора |
Правда, находясь вдали от Москвы и России, ностальгирующий писатель жить не может не только без щей, но и различных идиоматических выражений: «Я очень соскучился по России и жажду с нетерпением услышать вокруг себя русскую речь…», из письма от 2 декабря 1847 года Степану Шевыреву. Впрочем, речь эту можно было услышать в Петербурге, не менее любимом городе Гоголя, признававшегося, что «нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все». А все – это и русский народ, который «любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они (дамы – А.В.), верно, не услышат даже в театре». Последние две цитаты про Невский проспект – как раз из одноименной повести.
Так что выдумывать несуществующую проблему и отгадывать, кого Гоголь любил сильнее: новую столицу или старую, не будем. Каждый из двух этих прекрасных городов он любил по-своему, предельно ясно сформулировав свое отношение в «Петербургских записках 1836 года», написав, что «Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия». Николай Васильевич и без Северной Пальмиры жить не мог, и без Белокаменной: «Какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечесанная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург!.. Москва – старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург – разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом».
Поразительно, что Гоголю хватило одной лишь статьи, чтобы сопоставить два абсолютно разных мира – московский и петербургский: «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи...» И про своих коллег не забыл: «В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются…»
Вот вам и социология, и культура, и экономика, и филология, и демография. И все в одной статье. Многие до Гоголя (да и после него) пытались сказать свое веское слово по вопросу московско-петербургского противостояния, но пока лучше Николая Васильевича это никто не сделал. А если мы вспомним и Киев, также привечаемый писателем, то, пожалуй, наш рассказ о московском житье-бытье Гоголя начнется не скоро. И как при этом не упомянуть Рим, где ему так хорошо и привольно жилось.
В этом году исполняется 190 лет с того дня, как Николай Васильевич впервые приехал в Первопрестольную. В конце июня 1832 года Гоголь, направляясь из Петербурга на родную Полтавщину, впервые приезжает в Москву. Где конкретно он жил, можно лишь предполагать (ибо писатель был весьма скрытен). Вероятно, что в одной из недорогих гостиниц. Нельзя также исключать, что остановился он у Михаила Погодина, что в ту пору обитал на Мясницкой улице, в доме, что стоял когда-то на месте бывшего уже магазина «Фарфор». Но это опять же предположение. Сергей Аксаков в связи с этим отмечал: «Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать». Зато осталось достаточно московских адресов Николая Васильевича, подтвержденных фактами и свидетельствами современников.
«По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон… Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошел в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости… тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный...
Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу; нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой» – так вспоминал Аксаков встречу с Гоголем спустя более чем два десятилетия.
«Явление Христа народу», то есть Николая Васильевича Гоголя, случилось в доме Аксаковых именно в субботу (а не в среду или четверг) по той причине, что это был «день открытых дверей», когда можно было прийти без предупреждения. Такой обычай практиковался в ту пору в московских домах. По субботам собирались у Аксакова в Большом Афанасьевском переулке (ныне дом 12, строение 1) его хорошие и приятные знакомые, причем не только литераторы, но и актеры (Михаил Щепкин), композиторы (Алексей Верстовский), театральные деятели (Михаил Загоскин и Александр Шаховской). Короче говоря, культурное общество Москвы. У многих из них Николай Васильевич впоследствии побывал в гостях.
Гоголь приехал не с пустыми руками. Можно сказать, прибыл на смотрины. В его дорожном саквояже лежала первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», что увидела свет летом 1831 года и была по достоинству оценена литературными гурманами, как и ее автор – «Пасичник Рудый Панько». Этот псевдоним оказался для Гоголя счастливым. И уж подлинное свое имя он скрывал недолго. Это в случае неудачи не хочется раскрывать псевдоним (что вполне понятно), а когда публика требует «автора» – здесь скромничать не следует. Прочитав вошедшие в первый том повести «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Пропавшая грамота», не сдерживал эмоций Александр Пушкин. В конце августа 1831 года он писал из Царского Села:
«Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою… Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и проч…»
Реакция наборщиков типографии стала известна Александру Сергеевичу от самого Гоголя, чуть ранее сообщившего об этом в своем письме. С Пушкиным они уже успели познакомиться – в мае 1831 года у Плетнева – и друг другу понравились. Насколько ровными были их отношения? Скажем так, была ли в оценке друг друга равнозначность? Биограф Гоголя Александр Воронский писал, что «литературной критикой верно отмечалось, что Гоголь, изображая отношения между собой и Пушкиным, допускал преувеличения. Несмотря на различие их художественного дара, а скорее именно благодаря этому различию Гоголь необыкновенно высоко ценил Пушкина; больше, он любил и преклонялся пред ним. Пушкин со своей стороны относился к Гоголю дружественно, но едва ли они были так близки, как об этом можно заключить из гоголевских писем». Случайно ли тогда в уста своего Хлестакова Гоголь вложил следующие слова: «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то все...» Большой оригинал». Трактовать это можно по-разному.
В исследованиях гоголевской биографии советского периода было довольно распространено мнение о Пушкине – благодетеле Гоголя: «Молодого автора обласкали Пушкин и Жуковский, приняли в свой круг лучшие литераторы столицы», – находим мы утверждение в книге «Русские писатели в Москве» 1977 года. А если бы не «обласкали»? Что тогда? Неужели бы талант Гоголя не пророс? И потом, что это за «свой круг» такой? Групповщина какая-то получается. Николай Васильевич с его малороссийской сметливостью и умением заводить друзей не пропал бы и без «круга». Не зря же Павел Анненков утверждал: «Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвых душ», но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. Однако же в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя». В каждой шутке, как говорится, есть что-то еще…
Самобытный талант Гоголя-Яновского оценили многие. Например, Евгений Баратынский, писавший весною 1832 года: «Я очень благодарен Яновскому за его подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский – человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса».
В общем шуме аплодисментов потонул почти одинокий голос московского критика Николая Полевого, напустившегося на Гоголя в «Московском телеграфе», обвинив его в желании «подделаться под малоруссизм», в «скудости изобретения» и «отступлении от устава вкуса и законов изящного» и «ошибках против правописания». Что и говорить, «страшные» грехи. Но кто помнит нынче Полевого? Чаще называют его однофамильца из XX века. Но как критик Гоголя он сохранился. А ведь Москва приняла Николая Васильевича радостно – он появился в Белокаменной именно как автор популярнейших «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Читали их все, делясь друг с другом впечатлениями от встречи с новым и необычным слогом ранее незнакомого писателя. Многие хотели с ним познакомиться.
Но почему же сам Николай Васильевич не хотел разглашать свой первый московский адрес? О многих людях и их московском пребывании приходилось мне писать, но, пожалуй, более трудной фигуры, чем Гоголь, еще не было. Он словно боец невидимого фронта путал следы, назывался чужим именем, подменял даты в письмах. Зачем?
Причуды Николая Васильевича, скрывавшего то собственное имя, то адрес, внесли немало помех исследователям его биографии, задавшимся непростой целью – по дням установить его точное местонахождение. Зачем, например, уже вернувшись в Россию осенью 1839 года, он писал из Москвы письма, указывая местом их отправки европейские города – Вену и Триест. Причем писал не кому-нибудь, а родной матушке. Аккуратные биографы называли это «мистификацией», народ попроще – обманом. Гоголь из Москвы сообщал, что вернется на родину не раньше ноября. Зачем? Объяснение нашли мудреное: дескать, Мария Ивановна намеревалась забрать дочерей после окончания института к себе в Васильевку, чему сын ее противился, имея собственные планы и виды на будущее сестер в столице или в Москве.
Осенью 1841 года Гоголь приехал в Москву с первым томом «Мертвых душ», судьбоносное значение которых и для русской литературы, и для России он вполне себе представлял. Иллюстрацией сего служат слова из письма Жуковскому от 12 ноября 1836 года: «Какой огромный, оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем. Это будет первая моя порядочная вещь – вещь, которая вынесет мое имя… Священная дрожь пробирает меня заранее… Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже ли судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение! Какой-то незримый пишет предо мною могущественным жезлом…» Адекватно оценивая свой талант, предполагал ли тогда Гоголь, что терпения-то ему и не хватит. И что продолжение первого тома будет самолично уничтожено им в огне.
Дел у писателя было много – чтобы увидеть поэму напечатанной, следовало получить разрешение московской цензуры, которая доставит ему немало хлопот. Гоголю в такой ситуации только и приходилось надеяться на Петербург, на государя Николая Павловича. В январе 1842 года Гоголь передает рукопись Белинскому. И уже в апреле благодаря ему и «группе поддержки» разрешение на печать первого тома было получено. Обошлось малой кровью. В частности, пришлось пожертвовать «Повестью о капитане Копейкине». Два месяца печатали поэму в типографии Московского университета на Большой Дмитровке 180 лет назад.
А пока на дворе год 1841-й, и Гоголь поселился в Москве у Погодина, теперь уже на Девичьем Поле, посвящая время и работе над повестью «Тарас Бульба». Сергей Аксаков не мог не заметить, как сильно изменился писатель: «Он стал худ, бледен, и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало».
На самом же деле «проказливость» никуда не делась. А даже усилилась. Во время переезда из Петербурга в Москву Николай Васильевич не забыл законспирироваться: «Он приехал в одной почтовой карете с Петр. Ив. Пейкером и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не Гоголь, а Гогель, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «Нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа».
Фамилия попутчика так бы и осталась неизвестной, если бы он не пришел к Аксаковым и не захотел увидеть «настоящего» Гоголя. Тут-то и обнаружилась «проказливость» писателя. Заходит Николай Васильевич, и Пейкер теряет дар речи: «Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Он был прав: за что Гоголь дурачил его трое суток? Между тем Гоголь сделал это единственно для того, чтоб избавиться от докучливых вопросов, предлагаемых обыкновенно писателю: «Что вы теперь пишете? Когда подарите нас новым произведением? Для чего вы не напишете того-то?» и пр. и пр. Можно ли строго осудить за это Гоголя, который так любил уединение дороги? Невинная выдумка возвращала ему полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми». И на том спасибо, должен был бы радоваться Пейкер.
В мае 1842 года Гоголь покидает Первопрестольную. Пересекая 23 мая 1842 года Тверскую заставу – официальную границу Москвы, – он и провожающие его должны были преодолеть шлагбаум. Стоящий на посту солдат спросил, кто они и куда едут. И тут Константин Аксаков, «неспособный ни к какому роду лжи, начал было рассказывать: что мы такие-то и едем провожать Гоголя, отправляющегося за границу». И был сильно раскритикован Николаем Васильевичем за свою искренность: «Гоголь поспешно вскочил и сказал, что мы едем на дачу и сегодня же воротимся в Москву». И тут же «пустился объяснять, что в жизни необходима змеиная мудрость, то есть что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения; что если б он успел объявить о путешественнике, отъезжающем в чужие края, то у него потребовали бы паспорт, который находился в то время у кондуктора, в конторе дилижансов, и путешественника бы не пропустили».
Слава богу, солдат ни к кому не привязался и коляска покатилась дальше. Гоголь, разговаривая с Сергеем Аксаковым, просил его «старательно вслушиваться во все суждения и отзывы о «Мертвых душах», предпочтительно дурные, записывать их из слова в слово и все без исключения сообщать ему в Италию». Зачем? Гоголь мотивировал это тем, что мнения людей «самых глупых и ничтожных, особенно людей, расположенных к нему враждебно, очень важны, ибо «злость, напрягая и изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые ускользали не только от пристрастных друзей, но и от людей равнодушных к личности автора, хотя бы они были очень умны и образованны».
Вера, что зло обладает свойствами добра, а пороки способны обернуться достоинствами, к концу жизни перешла у Гоголя всякие границы. Иван Тургенев, навестивший его в октябре 1851 года в знаменитом доме на Никитской, был поражен следующим высказыванием Гоголя о цензуре: «Он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей». На это Тургенев возражает: «Доказывать таким образом необходимость цензуры – не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства…» Какое интересное высказывание Ивана Сергеевича, не потерявшее актуальности! Но каков Гоголь!
Мнительность писателя (а кто-то скажет: предусмотрительность!) была одной из его характерных черт. И ведь проявляется она даже в желании найти в своей рукописи такие недостатки, которых в ней нет. Иными словами, поиск черной кошки в темной комнате может длиться весьма долго, выматывая силы и нервы у того, кто ее ищет. Высочайшая требовательность к себе, строгость, доходящая до абсурда (так свойственная гениям) в конце концов и свела Николая Васильевича в могилу. А произошло это опять же в Москве. Но об этом в другой раз.






















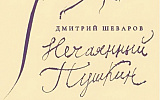



комментарии(0)