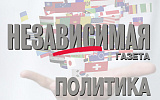Иногда солнце бывает красным...Август Копиш. Вид понтийских болот на закате. 1848. Национальная галерея, Берлин
Пройти путем Подсолнуха – значит дать этому цветку Солнца еще и голос…
Именно так поступает Глан Онанян.
Я встретила стихотворение «Желтое солнце Ван Гога» в журнале «Москва» (2012, № 7), где оно могло затеряться среди множества других стихов. Но критическое чутье победило мои читательские ощущения: я просто не могла пройти мимо этого текста, так и просящегося в этюд по теме «Подсолнух». Потому что не так часто встречаешь стихотворение, где есть образ, который прописан, имеет внутреннее развитие и художественную логику – точно выполняет авторское задание. Вот оно, «Желтое солнце Ван Гога», – привожу его полностью:
Не суши мои губы, ветер!
Ах, как жажда томит меня!
Я – подсолнух, я – желтый
вертел
На горячей жаровне дня.
Воздух пылью круто посолен,
Сух и зноен он, как зола.
Я – лохматый, рябой
подсолнух,
Не сердись на меня, Земля.
Уж таким я природой создан, –
Я и твой и не очень твой,
Ведь с рожденья тянусь
я к звездам
Запрокинутой головой.
Как чудак, опьяненный
светом,
Я ликую каждым листом,
К неоткрытым еще
планетам
Поворачиваясь лицом.
Что ищу я в космосе, пестрый
От пыльцы, букашек и пчел?
…Скоро нож нестерпимо
острый
Все учтет, что я не учел.
Не жалей, Земля, ради бога,
Что пролузгают плоть мою, –
Я безумную страсть Ван Гога
На груди пригрел, как змею.
Этот «говорящий» подсолнух на первый взгляд, казалось бы, далеко отстоит от своего вангоговского собрата, восхищающего нас своей пламенеющей красотой. В стихотворении Онаняна он некрасив и осознает это: «лохматый, рябой, пестрый» – «от пыльцы, букашек и пчел», потому что вырос в земле и связан с ней своими корнями. Он жалуется на свою безысходную судьбу – «нож, нестерпимо острый», оборвет жизнь – и «пролузгают плоть мою» (очень значим и точен этот символ). Поэт хочет донести – и доносит до нас – мысль о хрупкой беззащитности и «тоске существованья» всего живого мира, тянущегося «к звездам и бесконечности» – и возникает трагическая нота, всплывает тень Иннокентия Анненского («А где-то там мятутся средь огня// Такие ж я, без счета и названья// И чье-то молодое за меня// Кончается в тоске существованья»).
Взвихренный ритм речи подсолнуха – от первого лица – порождает особую музыку движения внутреннего сюжета стиха, переданную неточными ассонансными рифмами: «ветер – вертел», «листом – лицом», «посолен – подсолнух». Вдруг внезапно понимаешь двоякий смысл слова «подсолнух» – это цветок, который «под солнцем» и «под солью», потому что он стоит «на жаровне дня» и, как воздух, «пылью круто посолен» (и это тонко подмечает поэт).
Внутренний драматический сюжет – так, как он развивается в стихотворении Глана Онаняна, – пламенная устремленность подсолнуха к высшему, небесному, звездам, приходящая в противоречие с земным существованием, роднит поэта с вангоговским пониманием философско-образной сути этих цветов. Художник называл их «готическими розетками» именно за устремленность ввысь, возможно, вкладывал в это понятие и некий религиозный смысл – как исполнение высшего долга…
 |
| Золотые цветы вечной скорби.
Или все-таки радости? Поль Гоген. Карибская женщина с подсолнухами. 1889. Частная коллекция |
Но эта философская концепция прочитывается в поэтическом тесте и сама по себе. Имя Ван Гога есть только в названии стихотворения Глана Онаняна и неожиданно появляется в концовке: «Я безумную страсть Ван Гога/ На груди пригрел, как змею», чтобы донести до читателя гипотезу, что безумная одержимость художника передавалась той природе, которую он изображал на своих холстах…
…Не исключаю, что несколько пафосная концовка стихотворения Глана Онаняна может вызвать у читателя ироническое недоверие: а что современный автор в состоянии сказать нам о подсолнухах в поле без привязки к Ван Гогу? Ведь природа не знает творца и не мыслит образами. Хотя, как знать: «И голос Пушкина был над листвою слышен,/ И птицы Хлебникова пели у воды…» (Заболоцкий). Может быть, в свете этой философско-метафизической концепции сотворчества человека и природы и подсолнух Ван Гога хранит в своей «симфонии желтого и синего цвета» безумную страсть художника, сжигавшую его, когда он писал свой шедевр (Винсент работал каждое утро; по его словам, «едва только встает солнце, потому что эти цветы быстро вянут, их надо писать в один прием»).
…И все-таки все сказанное выше не снимает провокативного вопроса: а есть ли в современной поэзии образ подсолнуха, созданный без оглядки на Ван Гога? Если есть, то какой?
* * *
Да, есть, и принадлежит он Олегу Чухно (1937–2009). Судьба этого поэта, шесть лет назад от нас ушедшего, все еще остается по-настоящему не прочитанной и не осмысленной: в ряду невостребованных, пропущенных, не замеченных временем, таких, как Губанов, Блажеевский, Кутилов, уже нанесенных на карту отечественной поэзии; она все еще – terra incognita, белое пятно, хотя и выглядит более трагичной. Слова почему-то блекнут, стираются или усложняют, не достигая силы убедительности. Быть может, в таком случае есть смысл попытаться показать неизвестное через известное…
…Юрий Кузнецов и Олег Чухно – два антипода. Взаимопритяжение-взаимоотталкивание удивительным образом укладывается в «модель»: Гоген – Ван Гог. Оба – и Кузнецов и Чухно – из Краснодара, почти ровесники, рано потерявшие отцов, в своих творческих устремлениях поначалу маргиналы, не принятые Кубанью, приехавшие в Москву – утвердиться в творчестве, печататься, издавать книги. Но как резко разошлись жизненные и творческие пути поэтов! Волевой, расчетливо-взвешенный, целеустремленный характер Юрия Кузнецова (в этом тандеме он – «Гоген»), в скором времени помогает ему получить известность советского поэта: этому способствует постоянная поддержка влиятельного в 60–80-е годы критика Кожинова, а также общепринятый тогда статус социального поведения литератора: он служит в издательстве, работает в журнале, преподает в Литинституте (он его бывший выпускник), заседает в парткоме, в Союзе советских писателей и т.д. Он хочет известности, славы и к концу жизни обретает ее, так и не вспомнив (и не поддержав) того, с кем вместе начинал в поэзии «на заре туманной юности»…
Трагическая судьба, идущая след в след по Ван Гогу, досталась Олегу Чухно: непризнание, глухие годы бездомного существования (без прописки) в столице, неприятие литсреды, невозможность печататься и издаваться – а в 60–80-е он много, легко и качественно пишет – приводят его к тяжелой душевной болезни: последние 20 лет жизни проходят в Северском психоневрологическом диспансере Краснодарского края, где он, забытый всеми на родной Кубани, кроме писателя Виктора Домбровского, и умер при не выясненных до сих пор обстоятельствах; похоронен в станице Азовской.
Если Юрий Кузнецов – это воля, публицистический диктат, символ, то Олег Чухно – это эмоция, чувственность, индивидуально-личностное: свобода и страсть; страдание и сострадание, образ-метафора.
С самого начала он – по преимуществу художник, и художественное освоение мира роднит его с Ван Гогом, как, впрочем, и сам характер: яростные вспышки гнева и нежности, неприятие хамства и тонкость душевных переживаний, и, конечно же, любовь к природе и одержимость искусством. Как и голландский мастер, он пишет «Офорт», «Рисунок», «Графику», наслаждается буйством красок – «Оранжевой симфонии» осени и особо «желтого и зеленого» цвета, потому что в годы военного детства «небо, переполненное солнцем, казалось желто-желтым и зеленым./ И понял я, что кроме красных, черных/ Есть желтый и зеленый…».
Как и Ван Гог, Олег Чухно пишет не просто природу – он создает целые живые миры – «Стволы и листья» (так и названа его единственная прижизненная книга стихов, изданная мною в 2002 году в издательстве «Вече»), «Яблоко», «Червивцы» («И лежат они тихо, как больные старухи,/ Не разжав почерневших, измученных губ»), «Муха», «Третья речка Петухи», («Петух – могучее растенье,/ На гребень – лучшая заря./ Чудовищные ног коренья/ вцепились в крышу ноября»). Среди этих миров особое место занимает поле с колосьями: он пишет его по нескольку раз, в разных видах, под разным углом зрения – то по-детски чистым, наивным и добрым («Сколько их над тихою землею!/ Посмотри в задумчивые лица./ Может быть, они хотят напиться –/ Напои их чистою водою…»), то метафизически-тревожным и по-человечески вопрошающим («А поле живо вышиной,/ Пшеницы звоном, ветра свистом,/ А поле живо тишиной,/ Из праха восстающих листьев./ Оно застенчиво легло,/ Как совесть под ногами,/ Философическим углом/ Над ним склонился камень!»). Эти строки написаны в 60-е годы, а в 90-е, когда поэт уже стал заложником своей трагической судьбы, он увидит и напишет поле с подсолнухами, которое по закону выстраданного искусства – не могло не пересечься с полем Ван Гога.
Вот это стихотворение:
Что за поле вдали?
Что за поле?
То подсолнухи без голов!
Поражает внезапно болью
Этот мир оборвавшихся снов.
Но упрямо закручены шеи
Прямо в солнце –
и ходят за ним…
Это лучшее из отношений
Между небом и полем земным!
Перед нами – картина обезглавленного поля, ее можно увидеть не только на Кубани – в любом месте русской равнины.
Что же здесь необычного, подумает иной современный читатель, привыкший к словесной эквилибристике филологической поэтики, герметично-изысканной, но равнодушной к боли и состраданию. Какое здесь может быть художественное открытие?
Блестящий комментарий к стихотворению дает молодой поэт Светлана Котова, уже глазами другого века, XXI, прочитавшая смысл короткого – в два катрена – текста. Она совершенно справедливо отмечает, что объем вмещаемых строками образов и понятий бесконечно превышает их число: «Небо что поле, и все, что между нами и вокруг образуют сферу, это уже не рисунок на листе, а полноценная модель мира, художественная модель мира творческой единицы, поэта. Последние строки так теплы и невинны, что хочется на минуту забыть обо всех этих философских подтекстах в стихотворении, но делать этого не нужно».
Продолжим мысль: не нужно потому, что за всем этим стоит собирательный образ всего живого. Мы получаем точный и обнадеживающе-горький диагноз подсолнуху-человеку, как живому организму, – и «рецепт»: «Но упрямо закручены шеи/ Прямо в солнце – и ходят за ним» – это строки светлой надежды на вечный инстинкт самосохранения, заложенный в далеко не равнодушной – по-пушкински, а скорее – по-заболоцки, глубоко чувствующей природе. Котова совсем не случайно замечает: «Что за поле вдали? Что за поле?..» – можно рассматривать и как автобиографический монолог, хотя налицо речь авторская, отстраненная, не от первого лица. «Происходит это потому, что хотим мы или не хотим, наши стихи – это мы сами».
Замечательное признание!
Когда-то Гоголь в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» сетовал: «Дело странное: предметом нашей поэзии все же были мы, но мы в ней не узнаем себя».
Можно сказать: теперь в стихотворении Олега Чухно о поле с подсолнухами найден ключ не только к нашему узнаванию себя, но и к пониманию природы таланта тех невостребованных, пропущенных или вытесненных конъюнктурой своего времени (второй половины ХХ века) поэтов, получивших и продолжающих получать запоздалое признание в другом, XXI, веке.
Дело не только в том, что их не печатали, потому что они создавали необычайные оригинальные стихи. А в том, что – воспользуемся словами Святополка-Мирского о поэте графе Кемаровском – «такая оригинальность, совершенно бескорыстная с эволюционной точки зрения, и есть утверждение абсолютной свободы (разрядка наша. – И.Р.), проявление какой-то божественной игры избытка сил творческой эволюции…» («мир по колено» у Чухно), которая заставляла этих поэтов, повинуясь одному природному инстинкту «подсолнуха», вопреки жизненным обстоятельствам упрямо вытягивать шею – к солнцу, тянуться в направлении высокого искусства…
И дотянулись-таки!
P. S. Вероятно, на этой ноте можно было бы закончить «Три разговора о подсолнухе», если бы неожиданно не явилось продолжение и не потребовало от автора своего места в этюде.
…В прошлом году исполнилось 100 лет со дня смерти великого австрийского поэта Георга Тракля (1887–1914). Мне захотелось к этой дате перевести что-нибудь из того, кого ранее, в 80-е, я переводила, с чувством изумления перед открывшимся мне необычным художественным миром. Из-за недостатка времени выбор пал на самое короткое – в 12 строк – стихотворение «Die Sonnenblumen»:
В немецком языке дословно «солнечные цветы», или «цветы солнца», – это наши подсолнухи, так у нас и переводят.
«Вы золотые цветы солнца,/ Изнутри склоняетесь к смерти,/ Вы, милосердные сестры,/ В смиренной тиши/ Кончается год Гелиана,/ Вея свежестью горней,/ Не так ли бледнеет от поцелуев/ Лик опьяненного страстью/ Посреди золотых/ Цветов скорби вечной?/ Да, это он, сам дух/ Безмолвного мрака».
До сих пор мне удивительно, почему в третьей строке «Ihr demutsvollen Schwestern» сразу легло в перевод не, казалось бы, точное «Вы тихого смирения сестры», а «милосердные сестры». Неточность упорствовала в своем праве нести именно такой смысл, а не другой, и ни за что не хотела уходить. Быть может, потому, что «сестры милосердия» – это и напоминание о Первой мировой войне, жертвой которой был и поэт Георг Тракль. В «Разговорах с Кафкой» Яноух пишет: «Франц Кафка рассказал мне, что Тракль покончил с собой, приняв яд, чтобы убежать от ужасов войны… «У него было слишком богатое воображение, – сказал Кафка, – поэтому он и не смог вынести войны, которая и случилась прежде всего от чудовищного недостатка воображения».
Круг ассоциаций расширялся: «горнюю свежесть» каким-то образом навеяло гетевское «Uber allen Gipfeln», – «Wanderers Nachtlied» в гениальном вольном переводе Лермонтова: «Горные вершины спят во тьме ночной/ Тихие долины полны свежей мглой», а «лик опьяненного» «среди золотых цветов» вызвал из памяти лицо Ван Гога, в исступлении одержимого страстью перевести на холсты – один за другим – «эти цветы солнца – подсолнухи», пока они не завяли…
…Так, по-видимому, и созидается великий магический круг искусства, в котором краски и слова, образуя единство образных смыслов, держат нас в долгом плену тех чувств милосердия, которые глубоко спрятаны в сердце художника и поэта.
В теплоте сплачивающей тайны.