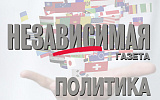«Новый метафизис» предлагает нам сосредоточиться на презентации самой культуры.
Художник Николай Эстис
Новый метафизис.
– М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 388 с.
На наших глазах культура лишается остатков своего институциализма. Власть добивает ее последние формирования. Ведутся эмоциональные споры о том, насколько это оправданно. Но можно только заблуждаться на тот счет, что, разрушив институции уже не существующего государства, можно сохранить сформировавшиеся в этом же прекратившем свое существование государстве институции культуры. Сама по себе культура все больше напоминает потерявшее целостность государство. Она деградировала в конгломерат раздробленных удельных образований, сформировавшихся из осколков некогда чего-то целостного, а именно из до конца еще не истребленных остатков институций, экспертных сообществ, даже из отдельных интеллектуалов или сколько-нибудь значимых авторов. Внутри этих феодальных образований действует своя система ценностей. Составляется свой синодик авторитетов.
Но, что авторитетно в одном уделе, не имеет полномасштабного хождения в другом. У своего заочного товарища по Живому Журналу, главного редактора «Нового мира», я увидел приведенную им цитатку из интервью Дмитрия Быкова, наглядно характеризующую сложившееся положение вещей. «Я не знаю в современной русской литературе ни одного текста, кроме моих произведений, разумеется, который бы отвечал на интересующие меня вопросы», – заявляет Быков. То же самое мог бы утверждать практически любой современный автор, имея в виду в том числе произведения самого Быкова. На просторах Интернета я все чаще натыкаюсь на признания небезызвестных литераторов, что ими не читаются и у них не вызывают никакого интереса даже самые признанные и оригинальные современные авторы, лауреаты всевозможных премий и лидеры неуклонно скудеющих продаж. То же самое можно сказать и о экспертных сообществах.
Каждое экспертное сообщество опирается на свой синодик значимых произведений. И через выпяченную нижнюю губу отзывается о синодике соседнего удельного сообщества. Все это напоминает локальные валюты, имеющие хождение только на определенной территории, но практически теряющие свою покупательную способность на соседней. Фрагментированное поле культуры имеет следствием потерю конвертируемости и возникновение культуртрегерской диспропорциональности, о чем еще в 1996 году в своем интервью высказывался философ Александр Пятигорский: «О нынешней мании культуртрегерства – я не говорю, что это плохо.<... > Вот эта мания перевода, мания ознакомления русского читателя с тем, что делается на Западе в философии, с культурной точки зрения прекрасна! Но с чисто философской позиции я бы сказал, что это просто плохо! Плохо потому, что ты невольно оказываешься опять оторванным от возможностей своего собственного философствования. Попытка такого синхронного (правда, с запозданием на 25 лет) ознакомления с современной европейской культурой очень двусмысленна и опять ведет к культурной переразвитости, к аномалии культуры».
Далее почтенный философ вдруг забывает о не знающем нормы и удержу культуртрегерстве «новый метафизис» – сосредоточиться не на репрезентации, а на презентации самой культуры – и перескакивает на рассуждения о вреде нормативности культуры, с очевидностью отождествляя одно с другим через то, что он определяет как имевшую место в бывшем СССР «обязательность» культуры. Пятигорский продолжает: «Я это понял, только приехав в Англию. Ни одному англичанину не придет в голову, например, сказать: «Ах! Вы не читали Диккенса! Вы совершенно некультурный человек». В то время как в России: «Вы не читали Достоевского? Да вы с ума сошли! Как можно не читать Достоевского?» Я не знаю, читал ли каждый пятнадцатый англичанин Диккенса, но он ответит вам: знаете, друг мой, да мне просто не хотелось читать Диккенса, Киплинга и т.д.».
«Наша «обязательность» культуры, – утверждает Пятигорский, – на самом деле очень сильно снижает рефлексивный потенциал человека. Это действительно очень важно. В особенности в отношении к языку. В СССР существовала единая культурная норма русского языка, что для страны в целом губительно. Скажем, когда Горбачев произносил речь, русский интеллигент говорил: у него южный акцент. Да любой член английского парламента и любой министр может говорить – йоркширец на абсолютно никому не понятном йоркширском наречии, девонец говорит с девонским акцентом и т.д. Потому что нет единой культурной нормы. Более того, с точки зрения английского индивидуализма ее и не должно быть, это мое личное дело, а не культуры, как я говорю, – меня не за акцент в парламент выбирали». И, наконец, Пятигорский делает следующий вывод: «На мой взгляд, отношение к неправильному или местному диалекту в России отражает культурную ситуацию в целом. В России господствует единая культурная норма языка, что тоже является монистической предпосылкой, ограничивающей возможности выражения индивидуального мышления».
Оставим на совести покойного философа, в далеком 1974 году приехавшего на Запад и обнаружившего там вместо строго единообразных англичан всевозможных йоркширцев, девонцев и прочих, что его так поразило это разнообразие. Оно стало ему милее нормативности, и в результате он противопоставил их друг другу. Сегодня у нас самих хватает примеров раздробленности и необязательности нашего отечественного культурного поля. Необходимость читать Достоевского и у нас уже ставится под сомнение, а школьное гуманитарное знание безжалостно редуцируется. Теперь уже очевидно, что проблема не в противопоставлении разнообразия и нормы. Отсутствие нормы ведет к уменьшению разнообразия, как и редукция разнообразия – к дискредитации нормы. Норма и разнообразие не враждебны друг другу. На самом деле они привязаны друг к другу и сами по себе не способны уничтожить друг друга. Но то и другое – и норма, и разнообразие – чахнут в условиях сворачивания самой культуры, ее влияния в современном нам мире.
Культуртрегерство характерно совсем не для столь уж однозначной в бывшем СССР «обязательности» культуры. Наоборот, возрастающая необязательность культуры последнего времени вызвала к жизни культуртрегерский снобизм. И чем выше культуртрегерская значимость тех или иных текстов, тем ниже способность их потребителей к собственной авторской оригинальной рефлексии. Проще говоря, человек культуры сегодня в большей степени способен говорить о написанном другими, чем говорить от себя. Культура увязла в репрезентации и утратила способность презентации. Как мне представляется и как это я понял, мои товарищи из только что вышедшего в издательстве «НЛО» сборника «Новый метафизис» остро переживают эту современную недостаточность презентации культуры. Вот почему их пафос и негодование направлены против постмодернизма, который редуцировал культуру до пустой репрезентации, до пресловутых симулякров третьего уровня, не предполагающих никакой презентации.
Для постмодернизма характерна бесконечная саморепрезентация. И Александр Давыдов объявляет ее исчерпанной. А Андрей Тавров определяет как «закавычивание» и предлагает раскавычить культуру или «расплавить цитату». На первый взгляд это представляется вполне оправданным. Из самых лучших побуждений объединенные «новым метафизисом» авторы хотят восстановить презентацию культуры, целостность культурного поля. Ввести такую не вызывающую сомнений валюту общего пользования, которая бы преодолела удельную раздробленность современной культуры. Предложить читателю такие тексты, презентация культуры в которых не вызывала бы сомнений. Насколько я понимаю, именно это предлагает «новый метафизис» – сосредоточиться не на репрезентации, а на презентации самой культуры. Как мне кажется, это то, что имеет в виду Андрей Тавров, призывая современных авторов «рассказывать что-то», то есть презентировать, а не «рассказывать о чем-то», то есть репрезентировать.
Чтобы лучше понять разницу, возьмем для примера фальшивомонетчиков. Лучше всех разницу в презентации и репрезентации понимают фальшивомонетчики. Деньги служат репрезентации. Они представляют собой эквивалент обладающего презентацией совокупного богатства. Сами по себе они не являются богатством, а только репрезентируют его. Каково это богатство – никто не знает. Сегодня экономисты всего мира ломают над этим голову и не могут определить реальный номинал диспропорционально, совсем как культуpтрегерство, разросшейся финансовой массы. То есть презентация того, что репрезентируют деньги, – величайшая загадка современности. Постмодернизм давно перешагнул рубежи культуры и шагнул в экономику и политику. Но для фальшивомонетчиков это не проблема. Пусть презентация того, что репрезентируют деньги, неизвестна. Зато известно, в чем состоит презентация самих денег. И они изо всех сил совершенствуются в имитации презентации, в том, чтобы фальшивые купюры с типографским качеством не уступали настоящим деньгам.
Подобно фальшивомонетчикам «новый метафизис» предлагает игнорировать сомнительную репрезентацию и сосредоточиться на презентации культуры. Но представители «нового метафизиса» – это не совсем обычные фальшивомонетчики. Это благородные фальшивомонетчики, исполненные высокопробного идеализма. Они не стремятся подделать имеющую хождение валюту и быстрее, пока их не поймали, приобрести на нее всевозможные блага. Их задача вообще совсем не в том, чтобы подделать эту жалкую, имеющую неполноценное хождение нынешнюю валюту. Они со всем свойственным им пафосом и перфекционизмом вознамерились создать превосходную по своим качествам валюту. Само обладание ею, держание ее в руках, ни с чем не сравнимое достоверное шуршание и хруст ее купюр, ее печать, ее водяные знаки должны создавать ощущение несомненной подлинности.
Смысл такой валюты в том, чтобы она была куда качественней многочисленных валют, имеющих хождение в деградировавших удельных княжествах раздробленного государства современной культуры. Поддельность такой превосходно исполненной валюты легко определить именно благодаря тому, что она несравненно качественнее имеющих хождение валют. Лучше бумага, на которой она напечатана, ее водяные знаки и графический орнамент – образец высокого мастерства. Ее единственный недостаток в том, что ее хождение ничуть не менее, если не более ограничено. Это настолько превосходная валюта, что на нее ничего нельзя купить в нашем бренном мире. Разве что она настолько превосходна, что на нее можно будет купить надел в царствии Божьем. Но так ли это, в этой жизни мы никогда не узнаем.
Может сложиться обманчивое впечатление, что я невысоко ставлю авторов «нового метафизиса». Это не так. На позапрошлой неделе ко мне обратились из одного интернет-издания с просьбой назвать трех самых значительных поэтов нашего времени. Я отказался. Я бы не смог свести современную мне поэзию всего только к трем поэтам. Тогда согласились на то, чтоб я назвал больше. Я составил список из семи. Андрей Тавров, Александр Давыдов – мой личный друг, и я с неподдельным интересом и особым вниманием отношусь ко всему, что им пишется. Владимир Аристов и Илья Кутик – вообще мои старые товарищи по метареалистической молодости. Вадим Месяц и Александр Иличевский – и вовсе сегодня настолько влиятельные литераторы, что тут нечего обсуждать. Проблема не в них. Она характерна для всей культуры в целом.
Безупречная презентация денежных знаков не способна компенсировать неразбериху с презентацией того, что эти денежные знаки репрезентируют. Все-таки дело не в качестве купюр, а в качестве их соотношения с тем, эквивалентом чего они являются. Какие бы безупречные купюры ни изготовили фальшивомонетчики, с их помощью все равно невозможно оздоровить экономику и восстановить пошатнувшийся баланс в соотношении презентации и репрезентации. Точно так же для восстановления полномасштабной функциональности культуры недостаточно текстов, рассказывающих о самих себе, культуры, ищущей резервов в самой себе. Ведь с проблемами саморепрезентации культуры совсем неплохо и даже, прямо скажем, блестяще справлялся и постмодернизм. Вот почему «новый метафизис» представляется мне недалеко ушедшим от постмодернизма. Сколько бы он от него ни открещивался, «новый метафизис» является его прямым продолжением с той только разницей, что постмодернизм балансирует на зыбкой грани несоответствия презентации и репрезентации, в то время как «новый метафизис» предлагает вовсе отказаться от репрезентации. Проще говоря, постмодернисты подделывали деньги, чтобы пустить их в оборот и нажиться. А «новый метафизис» подделывает деньги из любви к купюрам как к артефакту, а совсем не как к деньгам, наделенным меркантильной стоимостью. И в этой своей любви достигает несомненных успехов. Я высоко ценю то, что пишут мои товарищи из «нового метафизиса». Но то, что они пишут, не выходит за пределы саморепрезентации культуры, свойственной постмодернизму.
В текстах авторов «нового метафизиса» катастрофически не хватает презентации реальности. И пусть с презентацией культуры у них все в порядке, но реальности нельзя навязать заимствованную у культуры презентацию. Перефразируя Андрея Таврова, надо со всей определенностью сказать, что никакая плотва не заплывет в текст и не совершит в нем свой «серебряный вираж». Нужны серьезные основания, чтобы искать в тексте завораживающий сферический косяк искрящейся плотвы, а не просто включить телепрограмму Animal Planet или даже надеть акваланг и нырнуть в море. Для этого мало голой экспрессивности. Ведь что такое «расплавленная цитата», как не голая экспрессивность? Что вытекает из плавильного тигля, где расплавляются ее кавычки, как не самой чистой пробы постмодернистская гиперреальность. Та самая гиперреальность, что так же, как «новый метафизис», претендует на большую реальность, чем сама реальность. Чей виртуальный антураж заставляет смотреть даже пресловутый «Аватар».
Когда-то вещи казались чем-то более надежным, чем сейчас. Представления, скажем, Птолемея об устройстве Вселенной сохранялись тысячу лет. Платяные шкафы столетиями стояли в одних и тех же домах на одном и том же месте и передавались по наследству. Внуки донашивали пронафталиненные пальто своих дедов. Сегодня изменчивость реальности лишила нас способности воспроизводить реальность как нечто очевидное. Это и произвело симулякры. Кажется, остались только оболочки имен, которыми называются исчезнувшие, изменившие самим себе предметы. Но если мы находим в себе силы свидетельствовать, то даже такая ничтожная мимолетность, как «отсвет стены, хранящей дрожание тени гвоздя», оказывается непреходящей. Реальность не исчезла. Она просто оказалось другой, нежели та, какой ее себе представляли до нас. Она теперь не скопище неизменных предметов, а постоянно трансформирующаяся композиция из бессчетного множества взаимопроникающих и непрерывно меняющихся и меняющих друг друга феноменов. Но это не значит, что мы не можем больше дотянуться до нее, засвидетельствовать достоверность ее изменчивости. Просто мы имеем дело с другой достоверностью, а не с обманчивой игрой симулякров-атрибутов. При этом симулякры и атрибуты имеют несомненную вещественность, которая коренится в презентации культуры. Спецэффекты выглядят реальней самой реальности, особенно если смотреть их в кинотеатре «3D» через специальные очки. Но значит ли это, что мы должны верить в спецэффекты. Вот почему ссылка «нового метафизиса» на овеществляющую силу «слова кудесника» представляется по меньшей мере спекулятивной. Это все равно, как если бы кудесник пообещал нам сотворить чудо, а мы увидели, что это фокус. Но в ответ кудесник обвинил нас в неверии, в том, что мы не способны увидеть чуда по причине недостатка у нас веры. Или даже в том, что чуда не произошло исключительно из-за отсутствия у нас веры.
Разумеется, существует вероятность неузнанности. Может быть, можно не узнать чуда, если в него не верить. Хотя чудеса Христа были настолько бытовыми и очевидными, что, чтобы видеть их, не требовалось особой веры. Это и привлекало к нему множество народа, а не только непосредственно тех, чья вера снискала эти чудеса. Потому, видимо, никто из современных Иисусу недругов – персонажей Евангелия – не отрицал его чудес, а от безысходности просто числил их не по божественному, а по еретическому ведомству. Все-таки если простые смертные не могут опознать чудес кудесника, скорее что-то не так с кудесником, а не с простыми смертными. И сетования о замалчивании «нового метафизиса» его авторам надо адресовать прежде всего самим себе. Вот почему призыв Александра Иличевского «верить в слова» тоже представляется спекулятивным. Я верю в силу слова, особенно в силу того Слова, которое пишется с большой буквы. Но это совсем не то же самое, что верить в слова Иличевского. Хотя у Иличевского есть достаточно оснований верить в силу своих слов. Вообще любой литератор, даже не имеющий таких же, как Иличевский, оснований, безусловно имеет право верить в силу своих слов. Но по меньшей мере наивно думать, что этого достаточно, чтобы его словам не то что верили другие, но чтоб их хотя бы прочли.















.jpg)