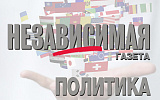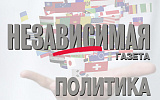Существуют репутации, которые как-то прямо на наших глазах создавались, на наших глазах меняли знак своей оценки. Я веду речь о Герцене, которого за время послехрущевской оттепели из яростного революционера, о котором писал Ленин как человеке, разбудившем русских революционеров-радикалов, сумели превратить почти в либерала, сторонника гуманных мер и средств исторического развития. А под пером Эйдельмана он даже превратился почти в диссидента брежневского периода. Не скажу, что к этому не было оснований. Но было и другое, и страшное. Писать об этом следовало бы большой трактат, проверяя оценку за оценкой, но все же на некоторые моменты я хотел бы обратить внимание, взяв в союзники людей и зорких, и трезвых.
Скажем, революционером считал его Михаил Катков, гений русской политической журналистики, которому Леонтьев предлагал поставить памятник напротив памятника Пушкина. Так вот, Катков, определяя истоки герценовской революционности, видел их в утопизме его концепции, ибо, по его мнению, «утопии сами служат наилучшим орудием отрицания и разрушения». Это утверждение как бы предугадывает аналогичные пореволюционные утверждения русских философов-эмигрантов (скажем, Франка). И в самом деле у Герцена утопизм сочетался с революционностью («Он поднял знамя революции», – писал, и справедливо, Ленин), в том числе революционностью его эстетических воззрений, более того, в каком-то смысле усиливал их. Он метался между надеждой на царя и верой в бакунинские идеи о русском крестьянине, «революционере по инстинкту», верой в то, что достаточно искры (то есть литературы), чтобы народ восстал. Не случайно книга, в которой изложена эта концепция («О развитии революционных идей в России»), посвящена Бакунину, еще в 1842 году провозгласившему, что «страсть разрушения есть творческая страсть».
Не забудем, однако, очень характерный эпизод из жизни Бакунина, о котором Герцен рассказывал едва ли не с восторгом. Бакунин волею судеб оказался руководителем майского восстания 1849 года в Дрездене, где проявил себя незабываемым образом. По воспоминаниям Герцена, Бакунин как бывший артиллерийский офицер учил военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов, советуя им «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо «поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet, чтобы осмелиться стрелять по Рафаэлю». Достоевский на ту же тему написал потом роман «Бесы», где в образе Ставрогина сошлись два человека с дьявольской эстетикой – Бакунин и Герцен, два богатых барина со склонностью к экспериментам над ближними. Но если о Бакунине держалось упорное мнение о его мужской неспособности, то Герцен, напротив, славился очевидной склонностью к эротическим необычностям (увел у ближайшего друга его любимую жену и т.п.).
Что же за текст Бакунина так понравился Герцену? За несколько лет до дрезденского восстания Бакунин вполне отчетливо выразил свое кредо. В 1842 году Бакунин опубликовал под псевдонимом Жюль Элизар работу «Реакция в Германии», где был сформулирован неожиданный для европейской культуры принцип: «Давайте доверять вечному духу, который потому только разрушает и отрицает, поскольку он – непостижимый и вечно творящий источник всей жизни. Страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть». Итак, все отрицающий дух, то есть дьявол, породил страсть разрушения, которая есть творческая страсть. Надо ему следовать. Может быть, впервые на европейском языке разрушение получило теоретическое обоснование, причем высказанное публично, более того, разрушение именовалось творчеством. Обычно разрушителями в мировой истории выступали те, кого не без основания называли варварами, то есть людьми, соприкоснувшимися с цивилизацией, но относящимися к ней грабительски и потребительски, не воспринимающими ее духовные ценности. Ранее почти никогда среди таковых нельзя было представить образованного человека. А Бакунин был человек образованный, воспитанный на немецкой классической философии, с красотой не боролся, просто эту красоту, красоту духовную не воспринимал, не хотел воспринимать. У него была другая красота. Можно назвать ее ставрогинской, где красота видится в нарушении норм.
 Так сбылись в конце концов или не сбылись? Алексей Лавров. Плакат "Сбылись мечты народные!". - Ленинград, 1950. |
Этот преступный эстетизм в отношении Герцена к общественной жизни в России очень хорошо увидел Борис Чичерин, блистательный историк, как и Герцен, выученик гегелевской философии, но прочитавший ее не как «алгебру революции», а как путь к реальной, обеспеченной всеми средствами свободе личности и преодолению произвола в жизни с помощью государства. Стоит внимательно вчитаться в его «Письмо к издателю «Колокола», опубликованное в 1858 году, где впервые указывалось на того, кого общественность в те годы считала зовущим Русь «к топору»: «Вы к гражданским преобразованиям довольно равнодушны. Гражданственность, просвещение не представляются Вам драгоценным растением, которое надобно заботливо насаждать и терпеливо лелеять как лучший дар общественной жизни. Пусть все это унесется в роковой борьбе, пусть вместо уважения к праву и к закону водворится привычка хвататься за топор – Вы об этом мало тревожитесь. Вам во что бы ни стало нужна цель, а каким путем она достигается – безумным и кровавым или мирным и гражданским, это для Вас вопрос второстепенный. Чем бы дело ни развязалось – невообразимым актом самого дикого деспотизма или свирепым разгулом разъяренной толпы – Вы все подпишете, все благословите. Вы не только подпишете, Вы считаете даже неприличным отвращать подобный исход. В Ваших глазах это поэтический каприз истории, которому мешать неучтиво. Поэтический каприз истории! Скажите, пожалуйста, когда Вы писали эти слова, как Вы на себя смотрели: как на политического деятеля, направляющего общество по разумному пути, или как на артиста, наблюдающего случайную игру событий?
Политический деятель имеет в виду не только цель, но и средства. Зрелое обсуждение последних, точное соображение обстоятельств, избрание наилучшего пути при известном положении дел – вот в чем состоит его задача, и ею он отличается от мыслителя, изучающего общий ход истории, и от художника, наблюдающего движения человеческих страстей. То, что Вы называете поэтическим капризом истории, действием самой природы, есть дело рук человеческих. Сама природа здесь – Вы, я, третий, все, кто приносит свою лепту на общее дело. И на каждом из нас, на самых незаметных деятелях лежит священная обязанность беречь свое гражданское достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли Вы поступаете, Вы, которому Ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы вправе спросить это у Вас, и какой дадите Вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу – вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в России много сочувствия!»
Эта тенденция чувствовалась с самого начала колокольного звона за рубежом. Герцен свое вольное книгопечатание начал угрозой (1853), еще до всяких восстаний в селе Бездна (название символическое – в эту Бездну потом и рухнула Россия) пообещав новую пугачевщину: «Страшна и Пугачевщина, но скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено». Поразительно, что, словно подтверждая угаданную Чичериным линию его «Колокола», Герцен накануне освобождения крестьян печатает печально знаменитое «Письмо из провинции». Напомню, что автор этого весьма известного письма, опубликованного в «Колоколе», вполне серьезно заявлял: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не может!» И подписывался не как-нибудь, а в твердой уверенности, что выражает мнение всех, – «Русский человек», показывая тем самым, что сущность национальной психеи, достижение национального единства видит в кровавой мясницкой резне. Действительно, традиция насилия имела слишком много адептов. Этот путь, как понятно, был утвержден в отечественной ментальности после большевистской революции эпохой ленинско-сталинского террора. Да и сегодня на улице постоянно слышишь о лицах, враждебных говорящему: «Расстрелять их, и дело с концом». Текст очень долго приписывался Чернышевскому. Но можно вообразить и другую картину: в одной комнате один друг пишет «Письмо из провинции», обсуждая с единомышленником наиболее удачные выражения, а потом чисто по-журналистски они пытаются отвести удар от «Колокола», и издатель довольно вяло возражает своему якобы оппоненту.
Я помню свой разговор с Эйдельманом, когда я сказал, что отрицаю авторство Чернышевского, ибо автор этого письма проговаривается, сообщая, что жил в «глухой провинции» во время крымской войны, но Саратов никогда не был глухой провинцией, да к тому же в это время Чернышевский уже переехал в Петербург, а в провинции застрял другой совсем человек, будущий эмигрант. «Вы намекаете на Огарева? – задумчиво так спросил Эйдельман. – Действительно «Р.Ч.» и «Русский человек» – его постоянные псевдонимы. Но чтобы друг Герцена – вряд ли... Во всяком случае, ясно, что это не Чернышевский». Я не думал тогда об Огареве, но быстрота реакции Эйдельмана показала, что он-то думал именно о нем. Кстати, в пресловутом письме есть проговорка. И правда, Огарев, друживший во второй эмигрантской жизни скорее не с Герценом, а с Бакуниным, называвшим страсть к разрушению творческой страстью, активно поддержавший Нечаева, больше подходил этому письму, нежели ироничный и осторожный Чернышевский, считавший самым важным не гибель, а жизнь человека. В конце 60-х Огарев выступил уже открыто с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации «Гой, ребята, люди русские!..»: «Припасайте петли крепкие/ На дворянские шеи тонкие! Добывайте ножи вострые/ На поповские груди белые! /Подымайтесь, добры молодцы,/ На разбой – дело великое!»
Даже «предлагая пари за социализм», который идет на смену нынешней Европе, Герцен понимал его прежде всего не как естественную, закономерную перестройку общества, базирующуюся на известных экономических законах, а как своего рода новое переселение народов, которое должно уничтожить все предшествующие ценности. «Я часто воображаю, как Тацит или Плиний умно рассуждали со своими приятелями об этой нелепой секте назареев, об этих Пьео Ле-Ру, пришедших из Иудеи с энергической и полубезумной речью, о тогдашнем Прудоне, явившемся в самый Рим проповедовать конец Рима... Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? – Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час – Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот...» Таким образом, тема, возникшая дома, на родине, как предвестие грядущего катаклизма, вызванного противостоянием униженного народа и высших, по-европейски образованных классов, глобализовавшись, опрокинулась на Европу: Герцен решил, гибель грозит не просто русским «образованным классам», а всей европейской цивилизации. Возможно, именно последние приведенные строки Герцена, которого «неонародники» называли выразителем «скифства» (Иванов-Разумник), навеяли Брюсову строки его знаменитых «Грядущих гуннов»: «Где вы, грядущие гунны,/ Что тучей нависли над миром!/ Слышу ваш топот чугунный/ По еще не открытым Памирам./ На нас ордой опьянелой/ Рухните с темных становий –/ Оживить одряхлевшее тело/ Волной пылающей крови./ ............/ Бесследно все сгибнет, быть может,/ Что ведомо было одним нам,/ Но вас, кто меня уничтожит,/ Встречаю приветственным гимном».
Так писал Брюсов в предвестии первой русской революции, тоже воспринимавшейся им как катаклизм. И позиция Герцена удивительно схожа с брюсовской. Он готов приветствовать разрушение культуры и свою гибель как ее представителя. Но кто же эти варвары, эти грядущие гунны? Герцен надеется, что это европейский пролетарий, если же нет, если и он «омещанится», то Европа все равно сама себя истребит в захватнических войнах, это он предрекает в конце «Писем из Франции и Италии», и тогда на новом историческом этапе цивилизацию должны строить новые варвары. И вот, если по отношению к своему народу он чувствовал себя представителем европейской цивилизации, то по отношению к Европе он почти сразу же, в первые же годы начинает чувствовать себя представителем варварского племени, которому дано осуществить наяву идеалы социализма: «Мы готовы делить ваши ненависти, но не понимаем вашей привязанности к наследию ваших предков. Мы слишком задавлены, слишком несчастны, чтоб удовлетвориться половинчатыми решениями. Вы многое щадите, вас останавливает раздумье совести, благочестие к былому; нам нечего щадить, нас ничто не останавливает. <...> В нашей жизни есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего неподвижного, ничего мещанского».
Как ни нападала на Герцена «молодая эмиграция», как ни опровергали его идеи ретивые «нигилисты», но его идеи оплодотворили русскую революционную мысль. Это вдруг отчетливо увидели пореволюционные русские эмигранты, изгнанные из страны впавшим в окаянство народом, руководимым бесами. Замечательный историк и филолог Аничков писал в конце 20-х годов: «Все главные лозунги русского революционного движения до самой «Народной воли» провозглашены Герценом. Настоящим вдохновителем революционеров еще во времена «нечаевщины» станет его друг Бакунин. Но Герцен не только позвал основывать тайные типографии, от него же исходит и «Земля и Воля», и «хождение в народ». <...> Провозглашенные им лозунги живы, и ими трепещут и мятутся, во имя их идут на Голгофу революционного дела новые поколения...» В свое время это резкое противопоставление позиции двух радикальных мыслителей (прочитана статья была в студенческие годы) поразило меня. Причем стоит отметить, что если от Герцена Аничков вел традицию народовольцев, то от Чернышевского – кадетов. Действительно, ненависть Чернышевского к варварству, считавшего катаклизмы вроде переселения народов – не революционной перестройкой мира, а ударом природных стихийных сил, его любовь к достижениям цивилизации – это, конечно, кадетство. Напротив, Герцен полагал, что русская цивилизационная скудость – лучший пропуск в будущее.
Русские радикалы видели в отсталости, отсутствии цивилизационных традиций преимущество России, показывающее ее молодость, ее предназначение начать новую страницу истории. Нету прошлого, нету наследства – и не надо! Причем многое из прошлого хотелось бы и самим вычеркнуть, чтоб его как бы и не было. На такой позиции вырастало и стояло русское революционерство леворадикального толка, начало которого я вижу в Бакунине и Герцене, писавшем в своем трактате «О развитии революционных идей в России»: «Нелегко Европе... разделаться со своим прошлым; она держится за него наперекор собственным интересам, ибо... в настоящем ее положении есть многое, что ей дорого и что трудно возместить... Мы же более свободны от прошлого, это великое преимущество... Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно, ограничено. Такие вещи, как московский царизм или петербургское императорство, любить невозможно. Их можно объяснить, можно найти в них зачатки иного будущего, но нужно стремиться избавиться от них, как от пеленок... У нас больше надежд, ибо мы только еще начинаем» (курсив мой. – В.К.). Все это шло в русле бакунинской идеи о том, что «страсть к разрушению» есть творчество, выразив тем самым крайний нигилизм в русской культуре.
Эти идеи были подхвачены «молодой эмиграцией» конца 60-х – начала 70-х (Ткачев, Нечаев), уже прямо заявившей, что цивилизация, школа, книги, достижения духа – только помеха для революции, но поскольку Россия молода и отстала, она сможет обогнать омещанившийся, обуржуазившийся Запад. Напрасно западный революционер Энгельс иронизировал над этой точкой зрения, заявляя: «Только на известной, даже для наших современных условий очень высокой ступени развития общественных производительных сил становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой застоя или даже упадка в общественном способе производства... Человек, способный утверждать, что эту революцию легче провести в такой стране, где хотя нет пролетариата, но зато нет и буржуазии, доказывает лишь то, что ему нужно учиться еще азбуке социализма». Напрасно Герцен в предсмертных письмах «К старому товарищу» выступил против молодых радикалов, согласившись со своим старым оппонентом Чернышевским, что вне цивилизации право личности утвердить не удастся.
Но молодым нигилистам было наплевать на личность и ее свободу, поэтому разрушения они не боялись. Тем более что к концу столетия среди революционеров появился человек, вроде бы усвоивший западные уроки марксизма и сказавший, что в России уже есть и пролетариат, и буржуазия, более того, за короткий промежуток времени – за каких-нибудь 25 лет – Россия достигла высшей точки капитализма – империализма. Хотя ироники твердили, что у нас нет ни труда, ни капитала, но есть зато борьба между ними, нигилистическое слово оказалось сильнее, совпав, как я уже говорил, с мощной почвенной традицией. Так и возникло вполне победоносное тоталитарное движение ХХ века. Как констатировал Федор Степун, «следы бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма». Победив, нигилисты-большевики вернулись, по сути, в допетровское прошлое, скрыв, по словам Бунина, «пучиной окаянной/ Великий и священный Град,/ Петром и Пушкиным созданный». («День памяти Петра»)
Большевики воображали себя и убеждали других, что они наследники и продолжатели петровских преобразований. Но Бунин, один из самых зорких и проницательных людей России, показал, как в «окаянные дни», когда пришла «ужасная пора», предсказанная Пушкиным в «Медном всаднике», град русской цивилизации был затоплен разбушевавшейся стихией отечественного нигилизма.
В 1857 году эмигрант Герцен в своем «Колоколе» так издали оценивал столицу Российской империи: «Говорить о настоящем России – значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией». Словно не было уже «Медного всадника», «Невского проспекта», петербургской поэмы «Двойник» – мощных составляющих «петербургского текста», означающих уже новую петербургскую культуру, увидевших Петербург в контексте русской и европейской истории. Особенно это относится, разумеется, к «Медному всаднику». Причем Герцен сам себе противоречит, говоря о контексте мировой истории, в котором пребывает Петербург: «С того дня, как Петр увидел, что для России одно спасение – перестать быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы определилась». Герцен очевидно передергивает здесь: движение во всемирную историю вовсе не означало необходимости перестать России быть русской, просто речь шла о тотальном отказе от изоляционизма, свойственного восточным деспотиям. Путь же самого Герцена с его ненавистью к петербургскому периоду русской истории вел, к несчастью, к тем социальным катастрофам, которые весь ХХ век губили Россию, изолируя от исторического процесса, смысл которого, по словам герценовского учителя Гегеля, «есть прогресс в сознании свободы – прогресс, который мы должны познать в его необходимости». Опыт Герцена – одно из серьезнейших предупреждений против поиска свободы на революционных путях.