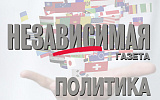Что, собственно, психологическая проза (далее ПП) собой представляла в момент появления и почему ФМД явился как откровение? (И думаю, что пока для многих им же и остается.)
Раскол гармонии
Классический русский реализм – А.С. Пушкин – представлял собой цельное, органичное, неразъемное сознание. Иными словами, реализм был не гениальным «сочинением» АСП, а гениальным выражением современной (ему современной) онтологии. Метафизический гений Пушкина + его художественный гений дали великую поэзию. Чем велики-то оне? Мировая гармония и целостность воспеты Пушкиным на самой высокой ноте Поэзии. Священное Совершенство в Священном совершенстве. Очень много красоты. Оч-чень. Ну оч-чень. И все было хорошо, прекрасно было, пока человек воспринимал самого себя и мир цельными. Чтобы увидеть разницу между цельным и разорванным, сразу же дам пример из «Бесов»: «Если Бога нет, то какой я штабс-капитан?»
В мире Пушкина с Богом дела обстояли отличнейше; соответственно, среди штабс-капитанов, майоров и прочих (как военных, так и статских) царило сплошное благополучие. (Только не надо цепляться ко мне с пушкинской «Гаврилиадой», его богохульствами и т.д., это совсем другая история.) Так вот, сам феномен психологической прозы лучше всего объясним исходя из фамилии главного героя романа «Преступление и наказание» – Раскольников. Раскольников – значит расколотый человек. С одной стороны, он уже над всеми и всем, поскольку Бог мертв и он сам претендует на Божественный статус (или – на статус Сверхчеловека); убийство, совершаемое Раскольниковым, – ритуальное убийство; происходит инициация нового Бога – Человека. И точно так же в «Бесах», там это сказано прямыми словами – когда Кириллов совершает самоубийство, цель – именно! – стать человекобогом. Совершив небывалое по мощности усилие, потрясти мир. То есть метафизическая революция свершилась.
Вдруг человек оказался готов возложить на себя нечеловеческие полномочия. Разумеется, «вдруг» произошло не вдруг – бытие определяет сознание. Подвиги Наполеона породили смелость Раскольникова. Наполеон, в свою очередь, был порожден Французской революцией. Ее вдохновили мыслители Просвещения, спешившие понять новый для них мир зарождавшихся буржуазных отношений. Священная монархия пала – забита, как жертвенная корова. Император – Солнце – Земной Бог – пал. Демократия сделала (делала) Богом всякого. Человекобог мог реально построить Царство Божие на Земле. Ах, какие возможности открывались! И вот этого человека, с одной стороны готового принять, возложить на себя верховные полномочия, а с другой – все еще укорененного в старом мире – мире строгой иерархии, гармонии и прописных истин добра и зла – описал Достоевский.
Раскольников убил, да сознался. Покаялся. И не просто, а по-христиански, то есть не перед Порфирием раскололся, что ему этот суд. Перед (Божьим) миром – в городской луже – дурень («дурень» – оценка личная) на коленях ползал.
Кириллов, как справедливо сказал о нем Верховенский-мл., религиознее попа оказался. Его бунт укладывался в религиозную мифологию – восстание титанов. Он богоборец, не безбожник.
Но! Главное случилось – человек и мир раскололись. Яблочко с древа познания съедено в очередной раз. В новых декорациях разыгрывается этот подноготный сюжетец.
Все дальше и дальше
На этот раз человек увидел: ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧТО ЕСТЬ ЗЛО – БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ОН САМ. События принимали ошеломляющий оборот. Требовали осознания, самоосознания, самоопределения. Рефлексия, мышление – постоянное, напряженное – сделалось насущной, необходимой, неотъемлемой и в то же время обыкновенной, как молитва прежде, человеческой составляющей. Все (!) это вышло наружу с прозой Достоевского, в ней проявилось и ею же узаконилось. Констатация разрыва сознания, до того цельного, осмысление случившегося, выстраивание новой системы отношений в новом мире, включая новую этику, новый этикет, новые границы допустимого и недопустимого, разрабатывалось психологической прозой ФМД. В свою очередь, проза Достоевского возникла как следствие разразившегося кризиса. Ситуация создала психологическую прозу, а та легитимизировала создавшуюся ситуацию. Так что Луначарский имел полное право пошутить насчет памятника писателю с надписью: «Ф.М. Достоевскому от благодарных бесов».
Таким образом, получается, что ПП описывает переходное состояние, потому что сознание не может существовать перманентно разорванным. Ботинки и то мучительно носить, если дырявые да каши просят. А тут само сознание пребывает в столь непотребном виде. Крайне болезненно это, нездорово да и малопродуктивно, честно говоря. Надо отдать должное – русская культура чрезвычайно быстро оправилась от так называемого «русского модерна». Именно модерн в лице Брюсова, Блока, Гиппиус, Мережковского, Белого на протяжении первых десяти примерно лет нового века вытворяли (и творили) последний, нынешний денечек. Они, оказавшись в ситуации «свободного духовного поиска», пытались переоткрыть – открыть заново – и Бога, и Сатану и заполнить образовавшуюся пустоту собственным гением, и, что примечательно, именно они и договорились до революции. Именно русский модерн, в лице самых талантливых, и покончил с модерном.
Вообще описанное Алексеем Толстым в «Хождении по мукам» перерождение богемных поэтов, декламировавших «будем лопать пустоту», в комиссаров-красногвардейцев характерно. «Отречемся от старого мира!» Только тупица, подлец или, если угодно, посредственность, обыватель не чувствовали необходимость сделать выбор. И сделать его непременно в пользу Нового Человека, Нового Искусства и т.д. Сам Христос пошел в Красную армию. Командовал, кажется, отделением. (Евангелие от Александра Б.)
Но, какими бы симпатичными ни были персонажи булгаковской «Белой гвардии», все равно же ясно, что, скажем, Мышлаевский – сапог. А вся эта компания – милые, конечно, люди, если в преферанс, да водочки тяпнуть, да под гитарку романс, но не более того. Маяковский им бы был противопоказан. (Не говорите мне, что Ленин не любил Маяковского.)
Штабс-капитаны, не без помощи Достоевского, к слову сказать, сделали свой выбор: если для того, чтобы оставаться штабс-капитанами, нужны Бог, Царь и Отечество, мы будем за них драться. А те, кто понял, что человек рожден для счастья, как птица для полета, решили, что цепи и оковы – Бог, Царь и Отечество – будут разбиты и сброшены. Далее события перешли в эндшпиль: шах – революция, гражданская война – мат – и закончились победой наших. Психологическая проза ушла со сцены в тот момент, когда разрешилась амбивалентность – когда перестали существовать два сознания в одном субъекте. Внутренний кризис Раскольникова нашел выражение и выход во вне. Прорвавшись в социальный раскол.
Разделившееся сознание разделило людей и тем самым восстановило свою цельность. Какой из образцов сознания сознательней, решалось уже в рукопашной; а чьи мозги светлее – можно было увидеть на заборе. Родиону Романовичу не оставалось совсем никакого места, Мечика прикончили, Клим Самгин (дружба с Порфириями Петровичами из Охранного до добра не доводит) покончил с собой. Ну кто там еще остался рефлектирующий, Васисуалий Лоханкин? Убит смехом. И еще: смерть коллективного Раскольникова – Самгин, Мечик, Лоханкин – случается на твердой почве реалистического романа. При ясной погоде, при свете дня. Человек правит, человек строит, человек пишет. Все это он делает гениально. Время, вперед! Человек всему хозяин┘ Становится очевидным, что БОГ – ЭТО МЕЧТА ЧЕЛОВЕКА О СЕБЕ САМОМ. ЧЕЛОВЕК ХХ ВЕКА, ЭТО ЧЕЛОВЕК, РЕАЛИЗОВАВШИЙ СВОЮ МЕЧТУ. Онтологические зазоры исчезли. Туман растворился. Метафизика, прошу прощения за каламбур, превратилась даже не в физику, а в физкультуру. Смутное стали лечить обливанием, психоанализом, бегом трусцой, и – конспектируйте, конспектируйте диалектиков. РЕАЛИЗМ. Реализм воцарился, и правил, и царил. И слово «социалистический» прилагалось к нему, очевидно, по праву. Поскольку триумф Человека состоялся именно как социализм. Вот так. А посему ПП, ввиду абсолютной неактуальности, лежала, пылилась. Но, как выяснилось, ждала, ждала своего часа. Который наступил своим чередом.
Миф о Сизифе
Человек надрывался. Миф о Сизифе оказался тут очень уместной аллегорией. Точнее, произошла реновация мифа, нашедшая художественное воплощение в экзистенциализме (мне с трудом дается не только произношение, но и написание этого слова). Герой, взявшийся за непосильное – свержение богов, – наказан непосильным. Но вот парадокс, уже целую вечность он выполняет свою немыслимую работу. Страдая, умирая, потея, карабкается, вкатывает камень, спускается и начинает по новой. В «Чуме», традиционно прочитывавшейся как аллегория о борьбе с фашизмом, сильно написана давящая безнадега смерти, зеленого чумного гноя, смрад погибающего города, люди, спасающие от смерти тех, кого никак нельзя спасти, не столько спасающие, сколько хоронящие мертвых, копошащиеся среди умирающих, чудом выжившие и все-таки заставившие отступить чуму. Возможно, не навсегда. Но сейчас – заставившие.
Однако представляемый экзистенциализмом тип сознания уже не был сознанием Нового Бога. Тяжесть взятого на себя задания, постоянные срывы привели к очередному кризису, надлому. Экзистенциальное задание – человек один на один с Бытием – разрешалось вновь во многом средствами ПП. Рефлексия, как сорняк, проросла в образовавшийся надлом. Расширила его и утвердилась. Сразу же стала очевидной существенная разница между психологической прозой Достоевского и психологизмом экзистенциализма. Герой Достоевского существовал фактически между двумя религиями – между верой в Человека и верой в Бога; герои Камю и Сартра существовали между верой в Человека и отчаянием полного безверия. Со временем и этот накал – накал отчаяния – остыл и перегорел. Советская литература, как бы избегавшая прямых цитат из западных образцов, не осталась в стороне. Развенчание героя «реалистической прозы», прописывание его в систему «отчаяния и безнадежности», шло в СССР своим чередом.
Трифонов, «Обмен», Белов, «Воспитание по доктору Споку», Маканин – что ни возьми, ну хоть рассказ «Человек свиты», Шукшин, Тендряков, Липатов, Есин, Битов – со всеми их учителями симметрии, апокалиптическими ландшафтами, художниками-временителями, крестьянами вне земли и труда, учеными без науки, людьми затерянными и потерявшимися в джунглях цивилизации, городов, истории, географии, на дне бутылки – писали про то же и про того же. Про Героя и Бога, растерявшего былое могущество. Растерявшегося, рассыпавшегося, больного и похмельного. Реализм расставался с реалистическим героем, вводя антигероя. Прежние ум и находчивость сменились бессилием и фактически слабоумием. Высокие идеалы ржавели и осыпались, замещаясь мелкотравчатым стяжательством.
Интересно, что демонтаж реалистического романа проводился средствами реалистического романа, воспринявшего черты психологической прозы. Разрушение реалистического монолита, таким образом, востребовало детище ФМД, призвав его на спиритический сеанс.
Об Айрис Мэрдок
На серьезный диалог с Достоевским решилась, пожалуй, только Айрис Мэрдок – писатель интересный всегда, с каждой из ее книг. В целом работа Мэрдок есть не что иное, как эпилог к Достоевскому.
Айрис Мэрдок не просто сопричастна, а была активной участницей всей этой истории. Редко случается, когда человек полностью принадлежит времени, переживает его, активен в нем и находит силы – это и есть дар осмыслять происходящее. Говоря по-пушкински, речь идет о способности мыслить и страдать; жить и умереть, разделив все очарования и разочарования эпохи, переболев всеми ее болезнями, и при этом – нет, не то чтобы встать над ней (что само по себе и фальшиво, и недостойно, как всякая позиция «над схваткой», только дешевые провокаторы обольщаются насчет подобных вещей: я выше Октябрьской революции, подумаешь, красные и белые друг дружку стреляют; подлость и глупость такая «высокая позиция») – сумела быть значительной и нужной. Как мыслитель и художник. Причем важно здесь и первое, и второе. Важно это специфическое художественное обдумывание, прямой выход на человека, на онтологическое, на «так, как в жизни бывает».
В случае с Мэрдок это тем более важно, учитывая ее профессию – философ. Отучившись в Кембридже и Оксфорде, затем профессорствуя в том же Оксфорде, она могла бы без лишней головной боли пробавляться умненькой, наукообразной эссеистикой, например. Чистенько, славно, респектабельно. Никакого тебе «художественного шарлатанства». Она же пошла по другому, по очень, я бы сказал, русскому пути.
Я не читал ее философской работы «Сартр, романтический рационалист» («Sartre, Romantic Rationalist»), но, ничем не рискуя, скажу: речь там идет об апологии человеческого стоицизма, несмотря на обреченность и стоицизма, и человеческого. Ни о чем другом на протяжении своей долгой (1919–1999) жизни Мэрдок не думала и не писала.
Работая профессионально, она выпускала по книжке в год – отличная возможность следить за постепенностью изменений, происходящих и в ней, и вокруг нее. Ясно и явно ее очарование коммунизмом, медленное разочарование, открытый антикоммунизм; а вместе с тем первоначальная, незамутненная вера в человека сменяется недоверчивой снисходительностью, затем – болезненной, глумящейся разочарованностью, потом усталостью, упованием на «здоровый консерватизм и порядок», позже – цинизмом, еще позже – привычным цинизмом.
Она родилась в Дублине, что кое-что да значит в смысле и самоощущения, и ощущения мира, и выросла в Лондоне. Всегда была успешной, а став лояльной и респектабельной, вообще достигла высот Агаты Кристи и Маргарет Тэтчер – Леди Британской империи, награждена высшими орденами, официальный портрет в официальной галерее. Вскоре после ее смерти я читал рецензию в «The New York Times Book Review» на книгу мужа Мэрдок, описавшего, как она болела и умирала. Книгу я опять-таки не прочитал, но из рецензии знаю: Мэрдок умирала от маразма и умерла в полном безумии. Для мыслителя и писателя, наверное, самая страшная смерть.
То есть Мэрдок прошла от и до. От надежд и борьбы до безнадежности и полного распада – до смерти в безумии. Показательная история. Ее последнюю главу пишет Пелевин. Но пока речь о другой поре. О том, что было живо и как бы давало некоторые поводы к иллюзиям, вспышкам радости и переливам настроения, цветущим всеми красками спектра – видимыми и невидимыми, основными и дополнительными. Хорошее, славное время.
Самая ясная, ничем не замутненная книга Мэрдок – ее известный первый роман «Под сетью». Главный герой – мальчишка, шалопай, художник. В меру беспринципный и безмерно хороший. Хороший по самой высокой шкале тем, что ценит и любит жизнь, людей, саму любовь, город, в котором живет; бесконечные шатанья по Лондону в счастливых компаниях таких же, как он сам, шалопаистых и очень хороших, составляют хороший кусок книги. И это не философские прогулки. Любовь и счастье не дают ногам покоя. В книге есть трогательная (трагикомическая) романтическая линия, но любовь благополучно озвучена без нее. Собственно, прелесть «Под сетью» вне всякого сюжета, хотя сюжет имеется и довольно-таки детективный; и вообще все построено по традициям плутовского романа. Последнее обстоятельство если важно, то лишь как ссылка (неназойливая) на эпоху Возрождения. Потому что книга неисчерпаемо оптимистична не только по отношению к главному действующему персонажу, не столько по отношению к нему, сколько в его лице ко всему роду человеческому. Особенно к художникам. Угроза немоты, подстерегающая искусство, высмеивается легко и вежливо на примере «концептуального театра» мимики и жеста – нелепого, пыльного, искусственного. В противоположность герою и его возлюбленной, приятелям, выпивкам, авантюрам, замечательному псу, едва не ставшему жертвой «плохих», но, естественно, спасенного. Счастливо и хорошо в этой книге. И ее герои счастливы и хороши.
«Под сетью» вышла в 1954 году, то есть Мэрдок было 35. Оптимизм в 35 обдуман, он уже никак не «биологическая улыбка» здорового организма, а убеждение, результат определенного знания людей, жизни, специфических сторон хорошего и плохого, смутного и ясного; этот оптимизм, возникший от знания сил и слабостей и того, что силы не бесконечны. Поэтому так ценно, так бесценно, что знающий и умный нашел себя, мир, людей в полной гармонии. Книга – никакими манифестами там, разумеется, не пахло – звучала все-таки как личный манифест, как позиция, декларированная безо всякого вызова, но обдуманно, и от этого твердо: человек хорош, талантлив и счастлив, таков он есть, таким должен оставаться всегда.
Конечно, задним числом я скажу, что ситуация для героя была максимально облегчена. Реакции героя, его психология, сконструированные Мэрдок, давали ему решительное и бесповоротное преимущество на все случаи жизни. Психологизм работал на этот раз как дизайнерский инструмент, делал характер, писал, моделировал артиста-пофигиста. В итоге именно Мэрдок породила базовый, идеальный тип постмодернистской психологии, внедрившейся позже в России уже, так сказать, на биооснове (базовая модель «Курицын»).
То, что Мэрдок не играет в поддавки, стало ясно из ее последующих книг. Роман «Дитя Слова» («А Word Child»), написан со всей серьезностью и пристрастностью по отношению к герою и обстоятельствам. Вина, преступление, искупление, наказание сконцентрированы с очевидной ориентацией на «Преступление и наказание», что неоднократно, иногда навязчиво подчеркнуто, вплоть до топографических реминисценций: в одном месте Мэрдок пишет о сходстве уголка Лондона с Петербургом – скверик, лужа (имеется скорее всего в виду та знаменитая лужа на Сенной). Герой – Дитя Слова – сирота, вместе с сестрой рос у жестокой тетки, пока не был сдан теткой в приют, разлучен с сестрой. Сестра – воплощенная доброта, несколько идиотическая девушка (это чтоб доброта была уж совсем беспримесной), имеет своей целью лишь одно счастье – брата, ради него готова на полное самоотречение. Брат, отданный в приют, озлобленный на весь свет, шел прямиком в тюрьму, да спас школьный учитель, углядевший в мальчике редкостные способности к языкам. Выучив чуть ли не все существующие, побеждая на конкурсах и олимпиадах, герой попадает в Оксфорд. И уже воображалось: он – оксбриджский профессор, сестра живет вместе с ним, он помогает получить ей образование – солнечный круг, счастье вокруг. По окончании курса, оставшись в аспирантуре, Дитя Слова приобретает друга и покровителя Гуннара. Неожиданно он влюбляется в жену Гуннара, не соблазняет ее, а именно влюбляется; как ему кажется, безнадежно. Оказалось, взаимно. Скоро все становится известно Гуннару. Дитя Слова убеждает возлюбленную бежать. По дороге машина попадает в аварию, девушка погибает. На вскрытии находят, что она была беременна.
Поддавшись страсти, герой убил – девушку, нерожденного ребенка (здрасьте снова, Федор Михайлович!), поломал жизнь Гуннару и – предал свой дар; после случившегося он не может оставаться в университете, а вместе с этим утрачена возможность дать образование сестре. Он чувствует себя преступником и сам определяет тяжесть наказания. Ни больше ни меньше, а устроить себе ад на этом свете (суицид исключен, это было бы слишком легко), отказавшись не только от жизненных удовольствий, но фактически похоронив себя заживо; принимает повинность – постоянное страдание: год за годом, изо дня в день, чтобы ничто не мешало, не отвлекало, между однообразием тупой службы в департаменте и визитами к паре-тройке приятелей – вспоминать снова, снова и снова, что произошло в роковой день, что случилось до того, после; и длящийся бесконечно воображаемый диалог с Гуннаром, с разными вариантами объяснений, где требования о прощении сменяются мольбами, или, по настроению, отказами от всякой возможности быть прощенным. Простить не может никто, потому что никакого прощения не существует вообще, и т.д., и т.д., и т.д.
Но в конечном счете встреча с Гуннаром – то, на что рассчитывает Дитя Слова, уповая на «последний разговор» и на «последний расчет». Ему известно, что, оставив академическую карьеру, Гуннар ушел в политику; известно, что его вторая жена – красавица аристократического происхождения. Герой узнает о новой должности Гуннара – директор департамента, где сам он служит на самой-самой незаметной должности. А дальше на сцене возникает эта самая «аристократическая жена»; в свою очередь, она знает всю историю от мужа – у Гуннара свой непокой, разрываемый противоречиями, он чувствует себя виноватым за то, что не снял груз вины с преступника, не простил его, и в то же время жаждет крови.
Женщина решила устроить их встречу. Гуннар и Дитя встречаются, но ни до чего договориться не могут. Мешают страх, непонимание, гнев, смущение, самолюбие. Тут-то происходит смешное и страшное: жена Гуннара влюбляется в героя, у нее есть сумасшедший план, она просит Дитя зачать с ней ребенка, новорожденный станет символом примирения, искупления, победой над смертью. Во время свидания – под каким-то мостом, на обледеневшем берегу речушки (видимо, все-таки Темзы, не Невы) они обмениваются поцелуем. Здесь их застает Гуннар. Его жена, поскользнувшись, падает в речушку и тонет на глазах у обоих. Все. Вернее, не все – тут-то героя, что называется, отпускает. Первый раз подобная история стала трагедией. Но больше, чем одна трагедия, это уже фарс. Нельзя расстрелять самого себя дважды; нет больше ни страдания, ни чувства вины. Иссякло. И Дитя Слова возвращается в нормальную жизнь.
Есть предел человеческого – нормального, не сверхчеловеческого. На нем можно и должно закрепиться и стать, и быть. Не претендуя на Божественную силу. Ее нет у человека. Ни Божественной силы страсти, ни жестокости, ни выносливости, ни возможности построить ад на земле, а следовательно, и рай. Есть экзистенция и человек. Безо всяких заглавных букв. Потому что строчной достаточно.
«Ромашка» крутится
Третий и последний роман Айрис Мэрдок «Отсеченная голова» я выбрал потому, что он четко зафиксировал финальную стадию эволюции взглядов Мэрдок. По времени написания роман не из последних, скорее – наоборот. Но, сказав в нем то, что сказалось, Мэрдок сразу дошла до конца; сказала то, к чему она позже вернется снова, но уже медленно, постепенно.
В советское время книга не переводилась, вероятнее всего, как разнузданная порнография. Смешно сказать, но при полном отсутствии «картинок живой природы» «Отсеченная голова» – сочинение, и это правда, глубоко аморальное.
Действующие лица: главный герой – торговец винами, историк-дилетант; его любовница; жена главного героя; родной брат главного героя, он же – 1-й любовник его жены, он же – любовник любовницы главного героя; психоаналитик жены главного героя, он же – ее любовник № 2; родная сестра психоаналитика, она же – его любовница (инцест), в нее же влюбляется главный герой.
«Ромашка» крутится с короткими остановками. На остановках персонажи произносят монологи в полном соответствии с классическими образцами ПП. Полные пафоса самообличения, готовности искупить, предложений самопожертвования, эти монологи плюс взаимообъяснения – в духе сочинений ФМД – намекают на внутреннее содержание, глубину, а следовательно, подразумевается то, что принято считать человеческой состоятельностью. Но единственное продолжение – новые подскоки гендерной чехарды. Авуары человеческого истощены. Это банкротство.
«Ромашка» крутится, завиваются виньетки словес, складываясь в фигурки порнокалейдоскопа: пары соединяются – так и сяк, а слова становятся – эдак и разэдак. Между словами и активностью (физиологической, всяческой) образовывался непреодолимый разрыв. Рефлексия – идущее от сознания – отвалилось по одну сторону, грубые инстинкты – по другую. В итоге: сознание – кастрировано, инстинкты – необуздываемы. Человек сломался. Сложное целое невозможно упростилось, дойдя по пути упрощения не до пресловутой монады, а до трихомонады.
Здесь важно увидеть отличие героев романов Достоевского, – действительно освобождавших в своем надломе энергии ядерного порядка, способные изменить или уничтожить целую Вселенную – от персонажей «Отсеченной головы» – не надломленных потенциально преодолимым кризисом, а сломленных, уничтоженных, освобождающих не более чем намокший окурок, мягко говоря, некоторое неблаговоние. Сероводородное. Беззвучное.
Человек изгадился (изгладился?). Желание выхода за пределы в беспредельное, воля к тому, чтобы быть бесконечно, быть бесконечностью, всем сразу, брать все и отдавать еще больше – кончились. И не хватило сил на, казалось бы, скромное – выиграть по очкам, потихоньку, на научной основе – толику превосходства, толику того большого, что уже ясно, что обломилось – ну не царство, ну и не полцарства, а так – троячок на коньячок. Получилось: попойка, похмелье, головная боль, жизнь на четвереньках (низкий поклон актуальному Кулику).
Когда голова отделена, что осталось? Остались вегетативные функции. Кому остались? Скажем, Умберто Эко. Орнаменталист – холодный и способный – кладет румянец на безжизненные щеки; покойничек – прямо херувим! Люби не хочу. Многие и любят, в полном соответствии со словами известного жениха из «Некоторые любят погорячее»: «У всех свои недостатки».
Психологическая проза иссякла, потому что прекратила существование сложная, сильная, яркая индивидуальность – тип человека – собственно, бывшая центром этой прозы, поводом к ее возникновению, первопричиной, смыслом, началом. Начало закончилось, настал его конец. Самый-самый.
Нью-Йорк