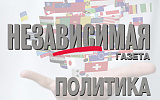Мы до сих пор не можем осмыслить исторический смысл перестройки. Свой поразительно горький вклад в это тяжкое дело познания вносит книга Карена Брутенца «Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке». Эта пронзительная и прозревающая книга изобилует горькими признаниями. Автор не отрекается ни от себя, ни от своих идеалов, ни от ответственности за то, что произошло со страной. Находя в себе мужество признаться и в двоемыслии, и в двоедушии, он получает право быть судьей своей эпохи и ее героев.
Гибель Советской Атлантиды
В самом конце 1980-х годов вместе с Н.Биккениным, О.Лацисом, И.Дедковым, Е.Гайдаром я работал в журнале «Коммунист», все мы остро (хотя и по-разному) переживали перипетии перестройки. Читая книгу Брутенца, я словно машиной времени был перенесен в то действительно судьбоносное время. В книге почти зримо передается поразительная атмосфера растерянности и беспомощности верховной власти, сметаемой нарастающей лавиной событий в политике, экономике, национальных отношениях, вдребезги разнесших СССР. Об этих настроениях, охвативших партийную интеллигенцию, вполне созвучно Брутенцу, писал в своем Дневнике и Игорь Дедков: «Политическое колесо буксует ≈ летит грязь в наши лица».
К.Брутенц, словно антрополог, буквально выливает на читателя такой огромный фактический материал анамнеза и гибели Советского Союза, что чувствуешь: книга писалась долго, ответственно и с болью. Автор рисует картину краха великой сверхдержавы, и некоторые страницы невозможно читать без содрогания. Без особой борьбы Советскому Союзу было нанесено глобальное геополитическое поражение, которое переживалось как острейшее унижение. Народ на долгие годы впал в глубокую депрессию.
Именно тогда шанс построить более справедливый миропорядок был упущен: слишком быстро сдавались позиции. И в самом деле, почему Варшавский договор был разрушен, а НАТО – нет?
Автор вскрывает и внутриполитические противоречия перестройки, проистекавшие из реального парадокса: позитивные политические и экономические нововведения, которые воспринимались общественным мнением «на ура», на самом деле приближали крах советской власти и СССР, шла ли речь о новом мышлении, демократизации партии, экономических новшествах или гласности.
Возьмем, к примеру, гласность. Всякая власть стремится ограничить ее. Даже буржуазная демократия боится гласности и для ее нейтрализации превращает свободу слова в простой товар. Так что прав К.Брутенц, отмечая, что ничем не ограниченная гласность, вырвавшись, как джин из бутылки, «предопределила поражение перестройки». В конце концов гласность обернулась против своих же творцов и свелась к травле КПСС. По сути, гласность узурпировала столичная интеллигенция, которую Брутенц подвергает критике. Она со всей злобой мстила партии за страх, пережитый в годы сталинской диктатуры, за унижения брежневского застоя. В отличие от Чехословакии и Польши, где интеллигенция смогла возглавить сопротивление авторитаризму, отечественная интеллигенция получила свободу не в борьбе, а из рук Горбачева, и как раз этого она не может ему простить. А уж в ельцинское время интеллигенция окончательно превратилась в лакеев, отталкивающих друг друга при раздаче спонсорских денег.
Особенно тяжело читать страницы книги, описывающие агонию КПСС. Автор показывает, как несгибаемая партия революционеров, превратившая страну в мировую сверхдержаву, рухнула в одночасье. И никто – ни одна парторганизация, ни один руководитель – не встал на ее защиту. Революционный дух партии был размолот жерновами сталинских репрессий. В период застоя у КПСС атрофировался даже инстинкт самосохранения, сама способность к политической борьбе.
Брутенц пишет о «безусловном рефлексе подчинения» и с болью констатирует: десятилетия страха, застоя и конформизма привели к тому, что члены Политбюро выродились в ловких царедворцев, ограниченных сервильных функционеров. А некогда грозный ЦК, эпицентр революционных страстей, превратился в бутафорский орган. В эпоху застоя партия уже окончательно выражала интересы не народа, а бюрократии. Не сумев справиться с демократизацией КПСС, лидеры перестройки приняли решение «валить партию». Однако запрещение партии уничтожало «несущую балку» всей советской конструкции.
Герой или предатель?
Главный герой книги К.Брутенца, несомненно, Михаил Сергеевич Горбачев. Критика по его адресу беспощадна именно потому, что автор долгие годы был верным «горбачевцем», входил в ближайший круг его советников. Так часто бывает в жизни: люди не могут себе простить собственного, порой добровольного ослепления. (Дорогого стоит самообвинение в «политическом идолопоклонстве».) С мужеством, заслуживающим уважения, Брутенц выдавливает из себя кондового номенклатурщика, чтобы перед «встречей с Богом» (это его слова) завоевать себе право на безбоязненную правду.
Преодолевая аппаратное подобострастие перед генеральным секретарем, Брутенц дает Горбачеву предельно суровую оценку: «Он оказался мельче той задачи, которую перед ним ставило время». По всей книге разбросаны обвинения по адресу лидера перестройки: авторитаризм, неумение слушать людей, подбор кадров по принципу личной лояльности (в чем, кстати, признается и сам М.С.), чрезмерная склонность к импровизации, отсутствие ясной концепции реформ, недостаточная теоретическая подготовленность для перемен такого масштаба, связанная с этим постоянная смена, зигзагообразность курса┘
Но книга все-таки не об этом. Безосновательно предполагать, что автор затеялся написать этот документ эпохи лишь для того, чтобы развенчать творца перестройки, обвинить его во всех смертных грехах. Так кажется лишь на самый поверхностный взгляд. Когда Сергей Земляной в рецензии на книгу Брутенца (НГ-Ex Libris от 23.03.2006) пишет: «Горбачев грезил о своем грядущем Пришествии в качестве мирового Лидера и Сеятеля пшеницы человеческой, а Запад беззастенчиво пользовался его нарциссической катарактой», – он совершенно упускает из виду жгучие вопросы, над которыми мучительно бьется Брутенц. «Почему перестройка, которая была нацелена на демократизацию социализма, провалилась? Почему она завершилась реставрацией сверхдикого капитализма и ограблением народа?» Свалить все на Горбачева – значило бы уклониться от серьезного анализа нашей еще кровоточащей истории. Да, недостатки Горбачева сыграли свою роль, но кто вообще без недостатков?
В российской политической истории Михаил Горбачев – уникальное явление. Никогда правитель в России не предпочитал свободу своих сограждан беспредельности своей власти. Он по сути добровольно оставил власть, явив неслыханный доселе пример. Даже когда он понял, что реформа СССР – это его конец, он не прибег к насилию. Максимум, что он себе позволил, – сказать уже в наше время: «Да, надо было отправить Ельцина куда-нибудь послом». И в мужестве Горбачеву не откажешь: уйти из Кремля так, как ушел он, – доблесть действительно благородного человека. Это с уважением признает и К.Брутенц.
В тяжкой истории перестройки, пожалуй, самая темная страница – история ГКЧП. К.Брутенц прав, когда пишет, что подлинная история ГКЧП – дело будущего: слишком опереточен, странен, плохо организован был путч. «Не вполне ясными остаются также взаимоотношения Горбачева с путчистами, основания их расчетов на Михаила Сергеевича». Ситуацию еще больше затемняет фраза Горбачева, бытующая в нескольких вариантах: «Никто не узнает правду об августовских событиях», «Все равно я вам не сказал всего и (никогда) не скажу». Брутенц отвергает саму возможность какой-либо тайной договоренности между узником Фороса и ГКЧП.
К чести Горбачева, надо признать: заняв демократическую позицию, он, несмотря на все соблазны власти, давление обстоятельств, нашептывания советников, принципиально держался своей линии до конца. В одном из интервью он сказал: «Мы все-таки довели нашу свободу до точки невозвращения». Вот только эта свобода обернулась трагедией для миллионов людей. И это делает Горбачева крупнейшей трагической фигурой мировой истории.
В канун своего 75-летия Михаил Сергеевич писал: «Перестройка состоялась как альтернатива двум историческим крайностям: эгоистическому частнособственническому капитализму, с одной стороны, и сталинскому тоталитаризму ≈ с другой». Поначалу он пытался доказать, что коммунизм отнюдь не равнозначен тоталитаризму. (Я думаю, что его фраза о «коммунистическом режиме, навязанном народу» является позднейшей попыткой самооправдания: если бы этот режим был навязан, то народ не отстоял бы его в двух страшных войнах, не щадя своей жизни.)
Горбачев даже в мыслях не предполагал стать могильщиком советского проекта. Однако неумолимая логика вышедших из-под контроля реформ привела к реставрации капитализма.
С точки зрения философии истории совершенно бесплодно рассматривать ее реальный ход в сослагательном наклонении: «Что бы было, если бы?..» История произошла так, как она произошла. И мне как историку важнее получить ответ не на вопрос: «Можно ли было сохранить СССР?», а на вопрос: «Почему СССР распался?»
К.Брутнец предельно остро ставит вопрос об ответственности Горбачева за результаты перестройки. Возможно ли было реформировать советскую систему и сохранить Советский Союз? Ведь если советская система была в принципе не реформируема и ее можно было только разрушить, то Михаил Горбачев не несет ответственность за крах перестройки. Но если систему можно было реформировать, а дело в итоге обернулось гибелью огромной страны и страданиями миллионов людей, то вопрос об исторической ответственности правомерен и его надо поставить.
Второе издание НЭПа
По сути, перестройка стала вторым изданием НЭПа, который – в отличие от НЭПа 1920-х годов – не был задушен тоталитарным режимом, а напротив, смел этот режим. Дело закончилось реставрацией капитализма, потому что социализм в принципе несовместим с рынком. Выражение «рыночный социализм» имеет столько же смысла, сколь и выражение «деревянное железо» и отражает собой «человеческую, слишком человеческую» веру в возможность доделать за историю недоделанную ею работу.
Уже в 1930-е годы трагедия Октябрьской революции стала очевидна наиболее прозорливым (например, Троцкому). Однако подлинно народный, классовый характер революции отодвинул гибель Советского Союза еще на полвека. Его спасло тогда поистине человеческое чудо. Люди оказались участниками величайшего в истории строительства. Они воочию видели, как на глазах меняется некогда отсталая страна, превращаясь в мировую сверхдержаву. И в жизни каждой отдельной личности происходили разительные перемены. Ленинский лозунг «Мы научим каждую кухарку управлять государством» реально воплощался – кухаркины дети становились маршалами и академиками, народными артистами, признанными поэтами. Достоянием всех было бесплатное образование, здравоохранение и отдых. Но советский строй давал даже больше: он давал каждому ощущение великой борьбы за другой мир, ощущение штурмующего небо деятеля, от которого зависят судьбы истории. У десятков миллионов людей появилось Общее Дело, за которое они готовы были отдать жизнь. Именно это радикальное раскрепощение масс придавало широкую народную поддержку сталинскому деспотизму и порождало ощущение того, что в СССР строится социализм.
Свинцовый зад бюрократии
Да, в СССР были уничтожены классы и утвердилось бесклассовое общество. Но при этом глубоко иерархизированное: высшая номенклатура, технократия, армия и т.д. в силу своего статуса обладали монополией на власть и привилегии. Бюрократия взяла в свои руки власть. Вместо социализма в стране неотвратимо складывался, по определению Маркса, азиатский способ производства сродни деспотиям, царившим в Древнем Египте, Месопотамии и т.д.
Парадокс Октябрьской революции в том, что изначально по своей природе она была вполне социалистической, но строй, который утвердился в ее результате, не имел почти ничего общего с социализмом. Это был удивительный гибрид: на уровне идеологической и культурной надстройки – вполне социалистическое общество, которое осознавало себя в терминах свободы и равенства. По своему вектору революция была нацелена на выход за пределы экономической метареформации (рабовладение-феодализм-капитализм), то есть типов обществ, структурированных по оси собственности. Но реально был реализован регрессивный срыв к такой политической формации, при которой общество структурируется по оси власти. Иными словами, в СССР и других «социалистических» странах по сути сложился однотипный азиатскому способ производства, который, с учетом более высокой технологической основы, можно определить как этатистско-бюрократический. Его суть – тотальное поглощение государством всего гражданского общества (по теории Маркса должно быть как раз наоборот), тотальный контроль за всеми сферами жизни: от экономики до сексуальных отношений. Это общество структурируется на социальные группы, обладающие монополией на государственную власть (бюрократию), и группы, лишенные всякого доступа к власти (коммунитариат).
Полное огосударствление собственности было по своей сути противоположно реальному обобществлению и оборачивалось сосредоточием ее в руках бюрократии. Собственность растворялась во власти, которая, пронизывая все общество сверху донизу, превращала общину в материально-организационную форму бюрократической формации. В итоге, как констатировал Троцкий, «бюрократия победила не только левую оппозицию. Она победила большевистскую партию. Она победила программу Ленина, который главную опасность видел в превращении органов государства «из слуг общества в господ над обществом». Она победила всех этих врагов... не идеями и доводами, а собственной социальной тяжестью. Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции. Такова разгадка советского Термидора!».
Почему все ранние, «социалистические» революции XX века вырождались в тоталитарные режимы? По-видимому, потому, что главной движущей силой в этих революциях было крестьянство, которое отчаянно сопротивлялось разрушению общины под натиском индустриального уклада.
Уже в 1930-е годы псевдосоциализм начал компрометировать саму идею социализма, а марксизм стал превращаться из теории освобождения в идеологическое освящение деспотизма. Ускоренное развитие производительных сил в 1930–1970-х годах не привело к социализму. Очевидно, что для социализма отнюдь не достаточно производственного базиса. Необходим особый тип свободного человека, который (как массовый) в Советском Союзе отсутствовал.
Но в результате капиталистической реставрации в России возник еще более невероятный гибридный строй – бюрократический капитализм, где государство является главным экономическим субъектом, действующим не в интересах народа, а в интересах политического слоя. Бюрократический класс не только сохранил свою власть, но укрепил ее, юридически экспроприировав собственность у народа.
В этом и кроется подлинная драма Михаила Горбачева: ему не удалось вовлечь народ в процесс перемен в качестве основной движущей силы преобразований. В итоге и перестройка, и капиталистическая реставрация были делом бюрократии при полной изоляции народа, которому отводилась роль подопытной крысы.
Отцы перестройки несут ответственность за то, что «обманувшийся народ, обессиленный жестоким разочарованием, оказался не способен помешать политическим мародерам использовать крушение отжившего режима, чтобы присвоить плоды демократического движения, нажиться на разграблении страны», – пишет Брутенц. Свою роль сыграла и третирующая народ как малолетнего дебила антиалкогольная кампания – народ усомнился в адекватности начальства.
Нынешний уровень развития социальной теории не позволяет определить: поддаются ли в принципе реформированию политические формации или же возможен лишь их крах, ведущий к реставрации капитализма? Роковой причиной краха СССР стало маразматическое состояние, в которое был ввергнут марксизм. Сегодня очевидно, что идеалом главных теоретиков перестройки – например, А.Н. Яковлева – был либеральный капитализм в духе правой европейской социал-демократии. Не думаю, что А.Н. Яковлев не понимал, что государство, созданное как коммунистическое, став социал-демократическим, неизбежно развалится.
Я придерживаюсь мнения, что строй, утвердившийся в странах «реального социализма», мог быть реформирован в подлинно социалистический только в случае победы социалистических революций в развитых странах мира. Такая возможность реально возникла на стыке 1960–1970-х годов. Это была третья великая революционная волна, крах которой открыл дорогу неолиберальной глобализации. С середины 1970-х капитализм преодолевает государственно-монополистическую форму, которая мешала ему овладеть новейшими технологиями. Бюрократическая оболочка, характерная для кейнсианского государства, разрывается, и капитализм вступает в стадию неолиберальной реструктуризации с постоянно уменьшающей ролью государства в пользу саморегулирующихся рынков.
Бюрократический же псевдосоциализм оказался абсолютно резистентен к технологическим новшествам, что и предрешило его крах. Хотя К.Брутенц склонен думать, что существовали реальные шансы сохранить Союз, он признает, что для этого «нужна была другая перестройка, другая политика, другое руководство». Но Советский Союз не мог быть сохранен – он был порождением Октябрьской революции и советской системы. Наивно полагать, что если вы избавляетесь от Советов и КПСС, то союз, называемый Советским, останется. Ведь каждому союзу наций соответствует конкретная политическая форма.
Перестройка не только социально, но и национально взрывала Советский Союз, который являл собой единство социальных и национальных отношений. На мой взгляд, главная причина поражения перестройки в том, что Горбачев и его команда до самого последнего момента пытались спасти Советский Союз и ради этого шли на чрезмерные уступки националистам России и других республик. К сожалению, история не работает по принципу: «Давай выльем грязную воду, а ребеночка оставим». Поэтому все разговоры о том, что социализм в СССР мог быть реформируем, лишены всякого основания, ибо не было никакого социализма в марксистском понимании этого термина. И Горбачев не мог реформировать то, чего не было.
Эффект раздвоения
Читая книгу Брутенца, словно двоишься. С одной стороны, безусловно жаль великой страны, которую мы потеряли, и совершенно не приемлешь ельцинскую вакханалию капитализма. С другой – невозможно забыть нестерпимое удушье старого режима. Эта двойственность свойственна и К.Брутенцу, что в конечном счете оборачивается противоречивостью его позиций. В серьезной политике все взаимосвязано. Констатируя в конце книги «великую заслугу» Горбачева в избавлении внешней политики от идеологических шор, в ликвидации холодной войны, автор не видит «другой стороны медали» – развала СССР. Страна оказалась обрезана до границ XVII века и была вытолкнута в третий мир. Ценой выхода из «реального социализма» стал упадок России. Ведь созданный в условиях жестокой классовой борьбы, СССР не мог существовать, основываясь на общечеловеческом «новом мышлении». Автор как бы не замечает, что отказ от классового подхода привел к коллапсу СССР.
Точно так же автор считает благом окончание холодной войны, но при этом хаотический многополярный мир, по его мнению, – несомненное зло. Он вроде бы приветствует снятие советского протектората над Восточной Европой, но ведь это неизбежно вело к утрате Советским Союзом статуса сверхдержавы, о чем автор действительно сожалеет.
Сопоставляя опыт перестройки и китайский путь реформ, К.Брутенц отмечает «первостепенное значение политической стабильности». Но как можно ее обеспечить, если не сугубо авторитарным путем? К тому же китайский эксперимент еще далеко не закончен. Рано или поздно антагонизм между новой экономикой с 3 миллионами миллионеров и крайне ригидной политической системой, вынужденной обеспечивать 800 миллионов крестьян, должен будет взорваться. Тогда только чудо спасет «китайское чудо».
И как знать, может, мы вспомним Михаила Горбачева добрым словом за то, что в России слом старого государственного аппарата предшествовал экономическим реформам.