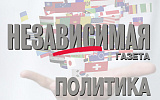"Представьте, если сможете, изощренно верное ритуалу (о, и матримониально-одержимое) официальное общество времен Джейн Остин, причеренкованное к зловонно-кишащему Лондону, воспетому Диккенсом, полное неразберихи и неожиданностей, как рыбье брюхо, набитое извивающимися червями; соедините все и взболтайте в мешанине из имбирного пива с аракой, добавьте для цвета фуксин, вермильон, багреца и известки; спрысните все это проходимцами и шлюхами и вы получите нечто, напоминающее мой потрясный родной город."
Салман Рушди.
"Земля под ее ногами"
"Я приехал, чтобы восстановить утраченную связь", - объяснил Салман Рушди, неожиданно возникнув перед журналистами, ловившими его по всему Дели в середине апреля 2000 г. Формальным поводом для тщательно скрываемого визита была торжественная церемония вручения премии "Писатели стран Содружества", на которую был номинирован (но не удостоен) последний, седьмой, роман скандально известного автора - "Земля под ее ногами" (1999). Получив наконец индийскую визу и вернувшись в страну после 12-летнего перерыва, Рушди привычно скрывал места своего пребывания и график передвижений. Наиболее рьяные представители 120-миллионной конфессии индийских мусульман были разгневаны приездом автора "Сатанинских стихов" (1988), запрещенных в Индии после фатвы аятоллы Хомейни, - в Дели жгли изображения Рушди и устраивали марши протеста. "Собираетесь ли Вы посетить Бомбей?" - "Не в этот раз," - ответил Рушди, родившийся в Бомбее в 1947 г., за несколько недель до провозглашения независимости Британской Индии и раздела ее на два государства - Индию и Пакистан. За лапидарностью ответа скрывались тоска и боль. В романе "Прощальный вздох мавра" (1995), по сути отрезавшем Рушди от родного города, герой-рассказчик поясняет: "Дом - это место, куда ты всегда можешь вернуться, какими бы болезненными ни были обстоятельства твоего ухода". Главные персонажи, в значительной мере авторские alter ego, четырех романов Салмана Рушди* - уроженцы Бомбея, до бреда влюбленные в свой город, - воспринимают его как пуп земли, и расстаются с ним, как правило, вынужденно, только для того, чтобы всю оставшуюся жизнь грезить: "Бомбей всегда находился в самом центре, он был таким с момента своего порождения - неполноценный плод португальско-английского брака, и тем не менее наиболее индийский из индийских городов. В Бомбее встретились и слились все Индии. Именно в Бомбее Индия вообще столкнулась с тем, что не было Индией, что пришло через черные воды, чтобы влиться в наши вены. Все к северу от Бомбея называется Северной Индией, все к югу от Бомбея называется Югом. К востоку лежит индийский Восток, а к западу - мировой Запад". Уроженец Бомбея Редьярд Киплинг, чей отец Джон Локвуд Киплинг - художник и архитектор - основал в Бомбее первую в Индии Школу искусств и украсил барельефами представительное здание Крауфордского рынка, называл Бомбей "матерью всех городов". В посвящении "Городу Бомбею" он, похоже, предвосхитил изломанную судьбу самого Рушди и его героев: "Те, кто в городе рос таком,/ Редко путь выбирают прямой,/ Но всегда мечтают тайком,/ Словно дети - прийти домой" (перевод Е.Витковского).
От Мумбаи к Бомбею и обратно
Вероятно, то, на чем стоит город, оказывает воздействие на его биографию и судьбы населяющих его людей. Лондон, например, выстроен на речном галечнике, Нью-Йорк - на скальном массиве, Санкт-Петербург - на болоте, Калькутта - на зыбком черном шламе речного устья, а Бомбей - город-гумус, город-компост - на перегнившей рыбе и перепревших пальмовых листьях.
На семи островах Аравийского моря, названных Птолемеем Гептанезией, произрастали кокосовые пальмы, манговые и тамариндовые деревья и жили рыбаки-коли, бросавшие рыбьи отходы к корневищам плодоносных рощ. Коли поклонялись богине Мумба-аи (Мумба-матушка) - окрашенному густо оранжевым цветом круглоголовому идолу. В средние века вокруг этих мест разбушевались страсти - побережье манило как индусских раджей, так и султанов-мусульман, но появившиеся здесь в 1509 г. португальцы положили глаз на красивое место с удобной гаванью - buan bahia и в 1534 г. договорились с тогдашним султаном о передаче островов португальскому королю. Истово внедряя веру, португальцы застроили острова церквями и монастырями - в таком охристианенном виде "семерка" вошла в наследство португальской принцессы Катарины Брагансы, выданной в 1662 г. за английского короля Карла II. Потом, правда, португальцы засомневались ("Португалия потеряет Индию в тот день, когда англичане обустроятся в Бомбее" - поплыло в Лиссабон пророческое послание) и до 1665 г. цепко держались за прежние владения. Британцы нажали, и будущий Бомбей стал самым ценным даром, полученным от оказавшейся бесплодной королевы, который Карл II, остро нуждавшийся в деньгах, уже в 1668 г. отдал в аренду Ост-Индской торговой компании за 10 фунтов годовых. Чтобы подтвердить право собственности на острова, Корона неустанно засылала сюда официальных лиц, но влажный жаркий климат вкупе с болотной гнилью и жиревшими на рыбьих отходах навозными мухами делали свое дело: губернаторы дохли один за другим. Тем не менее ландшафт стал постепенно англицизироваться - появились форт и таможня, затем суд и милиция, доки, типография и плавильный двор. Джеральд Онгьер, названный впоследствии отцом-основателем города, за короткий срок (1669-1677) успел многое, а главное - проявил широту души. Посетивший тогда эти края французский лекарь Деллон с восхищением писал о Бомбее как о городе, где "свободу обретает любой чужак независимо от религии и национальности". К уже осевшим в Бомбее маратхам-индусам, мусульманам и португальцам присоединились гуджаратские торговцы и ткачи, затем парсы - последователи зороастризма из Ирана, арабы с берегов Персидского залива и армяне; позже появились греки и евреи-сефарды, а затем потекли нескончаемые этнические потоки со всех уголков Индостана. В одной из дефиниций Рушди сравнивает город с греющейся на летнем солнцепеке кровососущей ящерицей: "Наш Бомбей напоминает руку, но самом деле это рот, всегда открытый, всегда голодный, заглатывающий еду и таланты со всей Индии. Обаятельный кровопийца..." Гибридный гетерогенный характер города укреплялся и в результате межконфессионального и межэтнического смешения кровей: полукровки всех мастей и оттенков долгое время являлись социально признанной частью бомбейского общества. Впрочем, руководство Ост-Индской компании неуклонно стимулировало "поставки" добропорядочного женского контингента из метрополии; к тому же индийские просторы, заселенные английскими чиновниками, торговцами и солдатами, увеличивали матримониальные шансы бесприданниц и перезрелых. Томас Худ, английский поэт-юморист начала XIX в., так отразил это в одной из баллад: "Твердит мне мать, твердит отец: / "Хоть ты и молода, / Пора бы, дочка, под венец, / Пришли твои года. / Не упускаем мы в страду / Погожих летних дней". / Но ярче солнце я найду, / И потому - в Бомбей!" (перевод Е.Ваниной). Жена одного из бомбейских губернаторов записала в своем дневнике: "Прибытие карго (если мне позволят употребить такой термин), юных дамочек из Англии, является одним из волнующих событий, которым ознаменован приход холодного сезона."
Урбанизация ландшафта сопровождалась постоянной борьбой с морем за каждый сантиметр суши: сначала строили мосты, затем возводили дамбы, осушали болота и, наконец, перешли к наступлению на водные просторы. Названия "семерки" отпечатались в топонимике городских районов, а имена влиятельных англичан, парсов и евреев, в наибольшей степени определивших облик города, - в названиях улиц, фонтанов, рынков, площадей, банков и театров. Город горел и отстраивался заново: в нем перемешались все существующие на земле архитектурные стили, здесь Запад воочию сошелся с Востоком.
Первое официальное владение англичан в Индии, Бомбей не играл не только заметной, но вообще никакой роли в подъеме и укреплении английской власти на полуострове Индостан; основными сценами политического театра являлись Калькутта и Мадрас. Свой стратегический вес Бомбей начал набирать с того момента, как был освоен мореходный путь через Средиземное и Красное моря; его звездный час наступил с открытием в 1869 г. Суэцкого канала - это превратило Бомбей в главный порт Индии, мировой торговый и финансовый центр, место делового сотрудничества Запада и Востока. Таковым он остается по сей день, включив в свой актив грандиозную "фабрику грез", известную как "Болливуд". Изменения, однако, затронули "компостную ауру" города - в 1960 г. в результате административного реформирования Бомбей стал столицей Махараштры, штата, образованного по монолингвистическому принципу; коренные жители Махараштры - маратхи - начали прибирать хрестоматийно космополитический метрополис к своим рукам.
"Дети полуночи"
"Я родился в городе Бомбее..." - так начинает повествование Салим Синаи, герой романа "Дети полуночи" (1980), принесшего Салману Рушди Букеровскую премию. В эссе "Воображаемые родины" (вероятно, названном так по созвучию с популярным на Западе трудом Бенедикта Андерсона "Воображенные общности. Размышления о происхождении и распространении национализма") Рушди, которому приходится разъяснять практически все свои произведения, рассказал, что возле его писательского стола висит старая фотография, на которой запечатлен дом его детства. В конце 70-х Рушди простоял перед родовым гнездом в Бомбее, не заходя внутрь, несколько часов, и тогда, по его признанию, у него зародился замысел "Детей полуночи" - эпического полотна об Индии XX в. и о судьбах детей, рожденных одновременно - в полночь с 14-го на 15-е августа 1947 г. - с независимой Индией. Судьба Салима (как и самого Рушди) расколота на несколько частей. Рожденный в семье бомбейских мусульман, он после раздела утратил почти всех родственников, переехавших в Пакистан, "страну чистых". Еще через некоторое время сохранившийся от прежних времен штат Бомбей был разделен на Махараштру и Гуджарат, и приобретший статус столицы маратхов Бомбей стал активно "маратхизироваться". Позднее, оказавшись против своего желания в Пакистане (как и Рушди), Салим, "навечно зараженный бомбейскостью", не может справиться с тоской по Бомбею: "Я никогда не простил Карачи за то, что это не Бомбей, - жители его издавали запах молчаливого смирения, что угнетающе действовало на мой нос, привыкший к избыточно наперченному бомбейскому бунтарству".
Действие романа, развивающегося не линейно, а ассоциативно, по закону фрагментарного диктата памяти, периодически замирает на торжественном перечислении бомбейских кварталов, улиц и магазинов: "Школьный автобус ехал мимо Чаупати Бич, сворачивал налево от Мэрин Драйв, проезжал Виктория Терминал, направлялся к Фонтану Флоры, мимо станции Черчгейт и Крауфордского рынка..." Уорден-роуд, храм Махалакшми, Уиллингдонский клуб, Хорнби Веллард, стадион им. Валлабхаи Патела, Уолсингхэмская школа для девочек на Нипен Си-роуд, больница Брич Кэнди, гробница Хаджи Али и еще около десятка бомбейских топонимов не сходят со страниц романов Рушди. Практически все его герои появляются на свет в родильном отделении при монастыре сестер Девы Марии Благодатной на Алтамонт-роуд, а их жизнь крутится вокруг элитарного района Малабарского холма. Иногда эти словесные формулы заключаются в графические скобки, не укладываясь в колею, проторенную памятью, и тогда Рушди устами, например, Мораиша Зогойби из "Прощального вздоха мавра" прибегает к эксплицитному объяснению того, что и так ясно: "О благословенная мантра моего утраченного города! Эти места навечно ускользнули от меня, я властвую над ними только в своей памяти. Извините, если я поддаюсь соблазну оживить их перед своим взором, повторяя, как заклинания, их имена".
Когда после многих лет скитаний Салим возвращается в Бомбей, "вместилище глубочайшей ностальгии", он истошно скандирует на весь поезд: "Back-to-Bom! Back-to-Bom!" Но Бомбей изменился, как и сам герой: "Наш Бомбей, Падма! Он тогда был совсем другой - не было ни ночных клубов, ни маринадных фабрик, ни Обероев-Шератонов, ни киностудий; но город рос с умопомрачительной скоростью, получая собор и конную статую маратхского воина-императора Шиваджи, который (так мы думали) оживал по ночам и мчался галопом, вызывая трепет, по улицам города - прямо вдоль Мэрин Драйв! По пескам Чаупатти Бич! Мимо величественных домов Малабарского холма, огибая Кемп Корнер, как угорелый несся вдоль моря к Скэндэл Пойнт! Ну да, а почему бы нет, вперед и вперед и затем вниз по моей собственной Уорден-роуд, прямо вдоль огороженных бассейнов на Брич Кэнди, точно по направлению к огромному храму Махалакшми и старому Уиллингдонскому клубу... На протяжении всего моего детства, когда в Бомбее наступали плохие времена, какой-нибудь ночной гуляка, страдающий бессонницей, обязательно сообщал, что видел, как статуя движется: беды города моего детства танцевали под оккультную музыку копыт из серого камня".
"Дети полуночи" были названы индийской критикой "пессимистическим произведением"; до сих пор компании Би-би-си не удалось получить от сменяющихся индийских правительств разрешения на съемки в Индии одноименного фильма. Ничего удивительного в этом нет: дебютируя в амплуа enfant terrible, характерного для "детей полуночи" и ставшего впоследствии жанровым для автора, Рушди умудрился "раздать всем сестрам по серьгам". Он выступил с жестокой критикой ведущих индийских политиков (коррупция, непотизм и т.д.), обозвал Индиру Ганди "Черной Вдовой" (открыто напоминая об отрицательной символике вдовства в индийской культуре), а время ее правления - в особенности период "чрезвычайного положения" (1975-1977) - "тиранической паранойей", подверг центральных персонажей романа насильственной стерилизации, связанной с именем младшего сына Индиры Санджая Ганди, и произнес сакраментальную фразу: "Эти Неру не успокоятся, пока не станут наследственными правителями." Как утверждает Салим: "Я рассказал правду... Правду памяти, потому что память обладает своей особой правдой. Она отбирает, опускает, изменяет, преувеличивает, преуменьшает, обеляет и также очерняет, и в конечном счете создает свою собственную реальность, гетерогенную, но обычно последовательную версию происшедшего, и никакой здравый человек не поверит в чью-нибудь версию больше, чем в свою собственную". Сам же Рушди убежден, что "противники по своей природе, политики и писатели борются за одну территорию".
"Сатанинские стихи"
Трагические события, перевернувшие жизнь вымышленных Джибрила Фаришты и Саладина Чамчы (а потом и Салмана Рушди), начинаются после того, как они покидают Бомбей. Джибрил, кстати, живет в пентхаусе высотного дома на Уорден-роуд в районе Малабарского холма (построенном, совершенно очевидно, на месте родного дома Салима Синаи из предыдущего романа), откуда видна половина Бомбея, в том числе "вечернее ожерелье (огни. - И.Г.) набережной Мэрин Драйв, Скэндэл Пойнт и море". Саладин родился в "просторном, но уже изъеденном (временем и ветрами) парсийского стиля особняке из природного сульфата с колоннами, ставнями и маленькими балкончиками", расположенном почти на самом берегу Аравийского моря у Скэндэл Пойнт. На предприимчивый ум юного бомбейца произвел неизгладимое впечатление случайно найденный на улице бумажник с фунтами стерлингов, и, совершая меркантильное предательство по отношению к родному городу, он окунулся в мечты о Лондоне: "...он стал невероятно уставать от этого Бомбея с его пылью, вульгарностью, полицейскими в шортах, трансвеститами, киношными fanzines, спящими на тротуарах бомжами, и притчей во языцех - поющими шлюхами с Грант-роуд, начинавшими как поклонницы богини Йелламы в Карнатаке и закончившими здесь как танцовщицы в более прозаических храмах плоти. Он был сыт по горло текстильными фабриками, внутригородскими электричками, всей неразберихой и культурой чрезмерности во всем, чем обладало это место..."
Недовольство Саладина отражает элементы разочарованности самого Рушди, уловившего глубинные метаморфозы в городе детства и обнаружившего появившуюся в нем несамодостаточность: "Бомбей оказался культурой римейков. Его архитектура передразнивала небоскребы, его кинематограф бесконечно перепевал "Великолепную семерку" и "Историю любви", заставляя всех своих героев защитить по крайней мере одну деревню от бандитов-убийц и всех своих героинь, хотя бы раз в их карьере - желательно в самом начале, умереть предпочтительнее от лейкемии". Но прижившись в Англии, Саладин начинает постепенно отвоевывать (как сушу у океана) обратно свой Бомбей - через попытки примирения с постаревшим отцом, что, по сути, означает признание кровного и духовного родства. Вот он снова оказался на Скэндэл Пойнт: "Саладин почувствовал, как, словно прилив, нахлынуло прошлое, утягивая за собой, наполняя его легкие соленым вкусом возвращения после долгого отсутствия. Я сегодня не в себе, подумал он. Сердце прыгает... Когда он увидел грецкий орех, в дупле которого, как утверждал отец, спрятана его душа, руки у него затряслись". Так или иначе - душа героев Рушди всегда обретается в Бомбее, и родной город дает им новый шанс на жизнь и смерть; в ценностной иерархии Рушди из четырех якорей души (место, язык, люди, обычаи) решающим является место. Полемизируя с высказыванием "Прошлое - это чужая страна", в "Воображаемых родинах" Рушди утверждает: "Прошлое - это дом". Оно не только было, оно - есть, даже если отчий дом подвергается физическому уничтожению: "Он стоял у окна своего детства и смотрел на Аравийское море. Детство было позади, и вид из этого окна был не более как старое и сентиментальное эхо. К черту! Пусть приходят бульдозеры. Если старое отказывается умирать, новое не может быть рождено".
"Прощальный вздох мавра"
Пророческое проклятие Епифании, прабабки Мораиша Зогойби: "Пусть твой дом навсегда останется расчлененным: пусть его основы обратятся в пыль, пусть твои дети восстанут против тебя и пусть твое падение будет тяжким!" - наполнено не мистикой, но человеческим опытом, постигшим, что "разделенный дом не устоит". Вскоре после выхода в свет "Прощального вздоха мавра" оно поразило и самого автора: путь в Бомбей ему оказался заказан.
Главный герой шестого романа-апокалипсиса Салмана Рушди, сын христианки Авроры и иудея Авраама, рожденный, естественно, на Алтамонт-роуд и живущий на Малабарском холме, признается: "Я глубоко и навсегда влюбился в неистощимое излишество Бомбея". "Излишество", взращенное на благодатной почве города-гумуса, города-компоста, заключалось не только и не столько в эклектичной архитектурной всеядности города лачуг и небоскребов или мешанине запахов и цветов ("слишком много багрянца и пурпура"), или уживающихся социальных контрастах, но в том, что "все реки впадали в его человеческое море. Он был океаном историй, и все мы были его сказителями и говорили одновременно. Какая магия была намешана в этот человеческий суп, какая гармония извлекалась из этой какофонии!" За время своего существования Бомбей никогда не доходил до крайностей, как Дели или Калькутта, Ассам, Кашмир или Панджаб, "где могли порешить за то, что ты обрезан, или, наоборот, обладал крайней плотью, носил длинные волосы или коротко стригся, был светлокож или темнокож и у тебя был не тот язык... В Бомбее такого никогда не случалось. - Вы говорите никогда? - Ну ладно, "никогда" сказано чересчур сильно. Бомбей не получил прививки от остальной страны, и то, что происходило где-то еще - например, языковый вопрос, - также расползалось по его улицам. Но по пути к Бомбею реки крови обычно разжижались, в них впадали другие реки, и к тому времени, когда они достигали городских улиц, уродства становились не так заметны. - Я сентиментальничаю? Теперь, когда я оставил все это позади, неужели наряду с другими потерями я утратил и ясность видения? - Может быть и так, но я все равно стою на своих словах. О Украшатели Города, неужели вы не понимаете, что в Бомбее было красиво то, что он не принадлежал никому и в то же время всем? Разве вы не видели ежедневные "живи и дай жить другим" чудеса, бурлившие на его переполненных улицах?" На протяжении долгого времени невозможность межконфессиональной агрессии оставалась специфической приметой города-гиганта.
Магическая проза Рушди наполнена совершенно реальными фактами (от мировых до внутрииндийских), и поэтому коммуналистские силы, стремящиеся обезличить Бомбей и превратить его в однородную субстанцию, называются автором напрямую или наделяются такими прозвищами и характеристиками, что не узнать их невозможно. "Красивая Мумбаи, маратхская Мумбаи, - ласкает словами город-женщину главарь мафиозной банды Майндук ("лягушка-придурок"), - однажды моя прекрасная Мумбаи, названная именем богини, а не этот грязный англофильский Бомбей, вспыхнет пламенем по нашему знаку. И тогда Малабарский холм превратится в пепел и наступит Рамраджъя (царство бога Рамы, одного из ведущих богов индусского пантеона. - И.Г.)". Целенаправленно прибирающий к своим руками город Майндук есть не кто иной, как Бал Тхакре, одиозный лидер воинствующей партии Шив сена, "Армии Шиваджи", того самого галопирующего по ночам национального героя маратхов. Рушди с академической скрупулезностью - от побед на муниципальных выборах ("Бомбей для маратхов!") до торжества в рамках штата - восстанавливает этапы прорыва к власти региональной Шив сены и разрастание ее в общеиндийскую партию, сотрудничающую с фундаменталистскими организациями индусов. Рущди пишет о "маленьких гитлерах в стиле Майндука", хотя такое сравнение может обидеть Бала Тхакре, в своих речах часто апеллирующего к образу Гитлера, только эпитетом "маленький".
В Бомбее, "лучшем из индийских городов", "славе своего времени", по мысли Рушди, утвердилась новая Индия - "Бога и Маммоны", деградирующие нравы превратили его в Содом и Гоморру и ему уготована судьба Трои: "...мы оказались несостоятельны. Варвары были не только у наших ворот, но и под нашей кожей. Мы были нашими собственными конями, забитыми нашим собственным роком. Мы были и бомбардирами, и бомбами". В одурманенном миазмами коррупции и торжествующего коммунализма городе происходят политические убийства и криминальные разборки, гремят взрывы, практически стирающие его с лица земли, и Мораиш Зогойби покидает родину: "Больше ничто не удерживало меня в Бомбее. Это был уже не мой Бомбей, уже не особый, уже не город перемешанной, полукровной радости. Что-то закончилось (мир?), и я не знал, что осталось". "Прощальный вздох мавра" был запрещен в Махараштре, столицу которой в 1997 году местные власти переименовали из Бомбея в Мумбаи. Во время недавнего визита в Индию Рушди отказался от мысли посетить Мумбаи, вероятно, не только из соображений собственной безопасности: он не хотел причинить боль любимому городу.
"Земля под ее ногами"
Кочующие (кстати, как и ряд персонажей) из романа в роман названия бомбейских ориентиров служат не только магическим заклинанием, вызывающим чувственно осязаемый облик родного города, это и реквием уходящему в небытие: прежние улицы переименованы, дома-символы разрушены, наступление на море и возведение многоприбыльных высотных зданий ("как снаряды на обесцвеченной стартовой площадке") уничтожило природную красоту; "королевское ожерелье" Мэрин Драйв превратилось в удавку. В принципе опирающийся на эстетику противопоставления, в последнем романе Салман Рушди возводит эту методику в абсолют: движущей силой сюжета становится отношение героев к Бомбею.
"Бомбейский копатель", В.В. Мерчант, отец героя Умида Мерчанта, одержим прошлым Бомбея: "Остальная Индия не представляла для В.В. никакого интереса, тогда как его родной город, одно-единственное зернышко, вращающееся в космической необъятности, содержало все загадки вселенной. Как единственный сын, я, естественно, был для него предпочтительным объектом применения его знаний, его накопительным счетом, его тайным ящиком. Каждый отец хочет, чтобы сын унаследовал лучшее, и мой отец отдал мне Бомбей". Современный Бомбей, "забывающий свою историю с каждым заходом солнца и переписывающий самого себя с восходом", становится камнем преткновения между искренне любящими друг друга В.В. и его женой Амир, жаждущей перекроить город в цинично-прагматическом духе "констракторов, билдеров и девелоперов", разрушающей то, что красиво, ради того, что выгодно. Оба обладали городом с такой полнотой, что Умид чувствовал - эта земля не принадлежит ему: "...может быть, я покинул Бомбей, потому что весь чертов город напоминал материнскую утробу (womb) и я должен был уехать из него, чтобы почувствовать себя рожденным".
Великую любовь родителей Умида разрушает единственный достойный соперник (соперница) - Бомбей: они восстают друг против друга, и Амир погибает от скоротечной злокачественной опухоли, а В.В., похоронив ее и кинув прощальный взгляд на обезображенные предпринимательским нажимом жены части Бомбея, кончает жизнь самоубийством. Бесконечно ревновавший город к своим родителям, Умид признается: "После того как они умерли, я ходил по улицам города, который они оба любили разными, непримиримыми путями. Их любовь нередко угнетала и удушала меня, но сейчас я снова желал ее для себя самого, желал вернуть моих родителей обратно, любя то, что любили они, и таким образом становясь тем, кем были мои родители". Так Умид обрел в наследство любовь к Бомбею, разрушаемому и разрушающему городу.
Другой великой любовью Умида стала рок-певица Вина Апсара, а соперником - Ормус Кама, приятель по детству и Малабарскому холму. Их противостояние, естественно, затронуло и родной город: "По поводу Бомбея, города, который мы оба покинем, Ормус и я никогда не соглашались. В его глазах Бомбей всегда был чем-то вроде захолустья, трухлявой деревни. Более престижные подмостки, подлинный Метрополис, нужно было искать где-то еще - в Шанхае, Токио, Буэнос-Айресе, Рио, и в первую очередь в легендарных городах Америки с их остроконечной архитектурой, перевалившими через разумные пределы лунными ракетами и гигантскими гиподермическими шприцами, громоздящимися над кавернами улиц... Мое отношение было другим. Не презрение, но пресыщение и клаустрофобия вынудили меня покинуть Бомбей. Бомбей слишком уж принадлежал моим родителям, В.В. Мерчанту и Амир. Он был продолжением их тел, а после их смерти - их душ... Многие из молодежи покидают дом, чтобы обрести себя; я должен был пересечь океан, чтобы только вырваться из Утробея (Wombey), родительского тела. Я улизнул, чтобы родиться". Расставанье с материнской утробой по мере взросления оборачивается желанием в нее вернуться; в минуты отчаяния человек забывается тяжким сном, свернувшись в позе зародыша; родной город видится как утроба с гумусной флорой транскультурности, разрушаемой бактериями коммунализма. Вопреки утверждению Рушди (в статье "В Бога мы веруем"), что "город как реальность и метафора является сердцевиной всех моих произведений", его Бомбей всегда гиперреален (а не "воображаемая родина"), и только единожды превращается в фонетически и семантически емкую метафору.
Певец гумуса и компоста, Рушди без устали напоминает, откуда он родом, тоскует по утраченному и для себя, и для других поколений миру плюралистической толпы, которая для него была определяющим образом Индии: "Если честно, до сих пор, каждую ночь, я улавливаю сладкий, с привкусом жасмина, озон Аравийского моря... Забудь о Мумбаи, я помню Бомбей". Герои двух последних романов Рушди не только не могут, но не хотят вернуться в Бомбей - обратного хода в утробу нет.
*Действие первого - фантастического - романа Рушди "Гримус" (1974) разворачивается в космическом пространстве; сюж














.jpg)