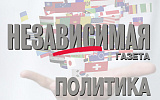1980
ноябрь
CНЕЖНЫЙ отсвет в комнатах. Вспоминаю стихи Леопарди из "Ricordanze":
"In queste sale antiche,
Al chiaror delle nevi..."2
Может быть, все мы живем в пустыне, в ночи, потерявшей красоту ночи. Упадок, который считаешь общим, затрагивает и тебя. Когда кто-нибудь говорит: "Бог умер", - это не звучит радостным криком. Но странно: в нескольких итальянских словах о снеге (как в другие дни - о чем-то другом) мне чудится какой-то серебряный звук - думаю, что-то в этом роде слышит верующий в колоколах Вознесения. Да, похоже. И опять в этой точке схода - иной мир. Или по-настоящему наш?
1981
январь
Миларепа. 3Мысли о нем в связи с тибетской музыкой, которую открыл для себя несколько дней назад. Его книга, иных моих друзей восхищавшая, меня - за исключением нескольких страниц - оставила почти холодным. Почему? Может быть, слишком легкомысленно с моей стороны спрашивать, во имя чего, собственно, все эти подвиги аскетизма? На модную йогу они в самом деле непохожи, и это хорошо; но замуровывать себя живьем, есть крапиву, чтобы самому стать того же цвета и обойти законы природы, - не извращение ли это?
Сознание, что я в подобных вопросах топчусь на месте, все сильнее парализует. Год за годом я возвращаюсь к тому же противоречию, ни на шаг не продвинувшись вперед, скорей даже отступив назад: груз неотвеченного перевешивает. Свет все дальше, все разреженнее, а темнота все ближе и плотней - кажется, само сердце черствеет. Я как будто наперед знаю, что написанное другими (глубочайшими мыслителями, величайшими святыми) не завладеет мной настолько глубоко, чтобы целиком изменить. Отсюда эти открытые, бегло пролистанные и немедленно, слишком быстро закрытые книги (кроме стихов, они еще способны светить мне более или менее долго, более или менее издалека) - что-то вроде картин, мелькающих в окне. Но, кажется, эти картины стали теперь так бледны, так редки, что и слова для рассказа о них тоже не успевают кристаллизоваться.
"Возможно, еще этот образ..." - эти слова родились в полусне и тут же оборвались. Так, наверно, чувствовал бы себя тот, у кого дрожат руки, возводящие карточный домик, который кажется уже почти обитаемым. И в тишине, которую я по-прежнему - как во времена "Непосвященного"4, только став еще более непосвященным, - пытаюсь в себе воссоздать, кажется, если что и родится, то слово-другое, не больше; в полной внутренней опустошенности.
Как вообразить себе, что глаза, как будто готовые погаснуть, стоит лишь краскам дня - их постепенно сносившейся до отдельных нитей и сквозящей теперь ночной темнотой тканине, все больше похожей на тусклое серебро, - окончательно стушеваться, развеяться, найдут в себе силы снова раскрыться перед черной бездной, откуда встанут не привычные созвездья, а совсем другие фигуры, светящиеся в каком-то ином пространстве?
***
Эти, кажется, отворяющиеся двери, образы и т.д.
Словно рука, легшая на плечо,
чуть похлопав затравленного,
этот свет от снега на гребешке
хребта,
еле видный свет...
После нескольких подобных "озарений" и попыток их осмыслить (понятно, негодных, и что мне всякий раз мешало?), после уже стольких лет я не в силах найти другие слова, кроме все тех же: "словно дверь отворилась..."
Так и боярышник поражал меня всякий раз, как я его видел. Его ветки сплетались аркой моста, под которым тянуло пройти, чтобы оказаться в каком-то ином пространстве, отчетливо помня тем не менее, что все это "невзаправду".
Так - или чуть по-другому - и полет козодоя, словно нащупывающего дорогу между днем и ночью, между землей и небом, всегда казался вначале чем-то иным, как бы предвестьем, которое всякий раз разоблачалось потом тиканьем часов.
Так и невидимый ручей под густыми, колючими, непролазными кустами - его неумолкающий, неуловимый голос, как будто бы тоже доходивший до нас откуда-то из иных краев, и вся поэзия подобного склада, вся музыка, вся живопись, уводящие к затаенному и неназываемому.
февраль
Слова из "Беседы птиц"5, которую я видел в замечательной парижской постановке Питера Брука (птицы прилетают в долину Небытия, но звездочет приободряет их, побуждая лететь дальше): "Даже если оба мира вдруг исчезнут, мельчайшая крупинка песка не перестанет существовать. Даже если от людей и духов не сохранится ни следа, капля воды останется той же тайной". Эпиграф к любой книге стихов, которую кто-то еще рискнет написать и напечатать в наше время.
***
Мое давнее неприятие и сюрреализма, и мистики как-то связано. Мне хотелось найти для себя средний путь; может быть, этой мечте не хватало силы.
Сегодня мне случается слышать визионеров, говорящих с куда большим напором или более острой ностальгией; свет для них - несомненное озарение, они как будто не чувствуют в нем обмана. На нижнем пути рискуешь потерять всякое представление о ясности. И, как знать, действительно ли он все еще более труден?
Если единственная путеводная звезда это едва заметный розовый отсвет на бахромчатом краю ангельского крыла, то чем это может помочь? Тут был бы нужен пожар - иначе эту стену не одолеть. Или все это опять не более чем слова, зачаровывающие, но не затрагивающие повседневной реальности?
Слишком далекие от жизни? Как беглец, прячущийся в лучах, в сиянии зари.
Как беглец, прячущийся в утренних лучах...
август
Идти дорогами, когда они уже почти неразличимы, когда вот-вот исчезнут из глаз; кое-где кажется, что шагаешь по углям, которые тем не менее не обжигают. И попутчиками в этих, пока еще освещенных солнцем местах одни бабочки.
Идти. Дороги диктуют - или почти диктуют - путь, исчезая из виду.
1982
февраль
...Новорожденная, чудесная просинь февральских вечеров. Крыло? полет? - что она напоминает, эта, пока еще едва ощутимая легкость, открытость, прибавка света? Начало, подступ, нежданная милость. Цветов голубя. Оттенков кровельного сланца. Чуть отодвинута ночь, чуть приподнята крыша света, и мы - под его раскинутым крылом. (Так думаешь после, по прошествии времени, а в тот миг чувствуешь совсем иначе - и в этом все дело. Чувствуешь то, что чувствуют дети, когда отказываются идти домой и, весело крича, продолжают игру. Чувствуешь, как свет перевешивает темноту с такой бесконечной мягкостью, что на глаза наворачиваются слезы.)
март
Мишо на восьмом десятке, в "Угловых опорах"6:
"Береги свою слабость".
"Осторожней, протаптывая тропу: на простор с нее не вернуться".
"В тебе всегда остается нечто незамутненное".
И еще, в перекличке с блейковским тигром:
"Тигр-властитель, словно по звуку трубы собирающийся в одно при виде жертвы, - для него она разом и спорт, и охота, и приключенье, и штурм, судьба, свобода, огонь, свет.
Он кидается, плюнутый голодом.
Кто посмеет сравнить свои секунды с его?
Кто в своей жизни хоть десять секунд был тигром?"
И дальше:
"Музыка, исстари неразлучная с поэзией.
Хватало тростниковой флейты. Наполняя ее, проходя ее насквозь, дыхание оборачивалось тоской. "Ее" тоской, в которой человек тут же узнавал свою... только похорошевшую, - и, зачарованный, видел себя пастухом, путником или принцессой. Пространством рожденная, она возвращалась пространством".
1984
апрель
Во всем - какое-то молодое изящество, просветленность. Как будто раскрыл дантовскую "Vita nuova" на словах "A ciascun alma presa e gentil core" или прочитал сонет, обращенный в "Rime" к Гвидо Кавальканти: "Guido, i vorrei che tu e Lapo ed io", понимая, что в ту лодку тебе не ступить, разве что ты, словно тень, смешаешься со смехом, пением, радостью, которые она покачивает на искрящихся волнах. Петрарка тоже где-то неподалеку. Кажется, приближаешься к царству фей. В руке у них - зеленая ветвь, которая преображает каждого, к кому прикоснется, во взгляде - живая вода или вино, дарящее легкий хмель.
Вишни - сплошные плюмажи снега. Вот-вот объявятся пчелы, неугомонные, бесчисленные. В воздухе, кажется, золотистый гуд огромного роя.
Ария Монтеверди тоже подошла бы этим то прохладным, то обжигающим созвездьям.
***
"Мой Гвидо, если б Лаппо,
ты и я,
Мечтою околдованы прекрасной,
Уплыли в лодке, ветру
неподвластной..."
Минуту мне снилось, что и я
в этой лодке,
я даже слышал тот смех,
те песни,
разносившиеся по апрельским
деревьям...
Но посмотри на свои руки!
И проси об одном:
чтобы они не подвели тебя
в другой, сумрачной лодке
и, если упросишь, пусть
разгоняют перед тобой туман,
а лучше так: согласись остаться
внимательной тенью
между теми песнями,
как холодок зимы -
в воздухе Пасхи...
1985
сентябрь
Или вместе с увяданием проступает костяк загадки, которая кроется в каждом? Может быть, потому же все сильнее любишь кожу вещей.
Музыка, взгляд, прикосновение руки. Молочный свет, в котором купается эта пора года, как будто мир превратился в овечье стадо, улегшееся на огромном лугу, пропитался росой и туманом, окутался шерсткой.
1990
июнь
Снова открыв старую тетрадь за август 1968 года с несколькими заметками о майских событиях, которые я в ту пору, следя за ними издалека, оценивал, по привычке, сдержанно, я хочу вспомнить из тогдашнего только одно: свою реакцию на чтение шестого номера журнала "Эфемер"7, вышедшего тем летом.
Меня потрясло, что три писателя моего поколения, которыми я восхищался и по-прежнему восхищаюсь больше всего - двое из них входили в редакцию журнала (два других соредактора, Бонфуа и Пикон, сохранили молчание) - Луи-Рене Де Форе, Андре Дю Буше и Жак Дюпен, писатели, скорее избегавшие публичности и, насколько помню, никогда не вовлекавшиеся в политические дебаты, в те дни приветствовали случившееся с одинаковым пылом, пылом, который я, даже оказавшись рядом с ними, вероятней всего, не смог бы разделить. Характерно, что каждому из них тогда почудилось, будто он - пусть ненадолго - видит перед собой воплощение мечты, которой всегда жил в творчестве: Де Форе - "потрясающее слово истины, заговорившей устами младенца", Дю Буше - новые "каникулы", Дюпен - "восстание знаков"... Эти страницы перевернули меня тогда; должно быть, я чувствовал смутный стыд за то, что не способен отдаться подобной волне пылкой надежды. Но помню, читая журнал дальше, я наткнулся на путевой дневник Басе "Узкая тропа на край мира" в переводе Рене Сиффера и тут же, не раздумывая, сказал себе: эта узкая тропа - единственная, по которой я хочу идти, не противореча собственной сути, единственный путь, на котором я не споткнусь. Уже с первых слов, с первой "меткой стрелы": "Дни и месяцы - постоянно в дороге; годы, сменяющие друг друга, тоже всегда в пути. Сидящий в лодке всю жизнь плывет; натягивающий поводья скачет навстречу старости, странствуя день за днем, сделав странствие своим пристанищем", я, подхваченный "обрывок облака, вверившийся воле ветра", был в этой самоотдаче готов к любым остановкам, любым переходам, даже к разрывам (как часто чувствовал себя подхваченным подобной силой другой, более меланхоличный путник - Франц Шуберт). Ни малейшего бунта против отцов тут не было - наоборот, во всей чистоте представало почтение к прошлому, как на той тысячелетней стеле, которая, "воочию являя дух Предков", рождает у путника слезы. Мне виделись как бы колья просторного шатра или узлы гигантской паутины (это Жубер8 писал, что "мир соткан наподобие паутины"). Абсолютное чудо этой прозы, этой поэзии заключалось в том, что она плела вокруг нас сеть, чьи всегда невесомые нити обещали, кажется, единственную настоящую свободу.
октябрь
"Дым коромыслом", последняя книга Мишеля Лейриса, вышедшая в 1988 году. "Хрупкий звук" конца жизни, взвинченный и нудный, поскольку он опять и в который раз пережевывает те же самые жалобы. Истончающаяся на глазах ткань книги открывает свою нитяную основу, вместо того чтобы распахнуться перед более мощным светом или хотя бы чем-то иным. Но читая вот эти строки, почти последние строки его, как оказалось, последней книги: "Факт, что поэзия как бы то ни было существует там, где ее удается застать врасплох или где ты сумел вдохнуть ее в те или иные существа, вещи, слова, сны, картины или книги, сам по себе решительно ничего не меняет, но, тем не менее, служит уроком, смысл которого ты не должен упустить. И я действительно - по крайней мере, в счастливые минуты, когда мой желчный темперамент ослабляет хватку - вижу здесь знак того, что не все потеряно и жизнь не исчерпывается всеобщим абсурдом, идея которого неотвязно преследует меня", - читая эти строки, я признаюсь себе, что в конце концов пришел ровно к тому же.
ноябрь
Перечитал "Идиота". После череды кошмаров "ясный и свежий смех" Аглаи врывается в книгу, как настоящий водопад.
1991
апрель
Куст розмарина, улей голубых пчел.
ноябрь
На этрусских надгробьях из обожженной глины, в Лувре, женщина часто держит в руке веер. Смерть и беззаботность, легкомыслие, изящество - смерть и это дуновение ветра, которое вдруг освежает уже спящие, нездешние черты.
1992
июнь
В поезде на Мюнхен, идущем по берегу Невшательского озера оттенков стали: всюду изобилие зеленых насаждений, и все-таки полное ничтожество архитектуры, если сравнить ее с прекрасными старыми домами в последних селеньях на берегу, выглядит как предвестье конца света.
Почти поражаешься, замечая среди этих тщательно выстроенных декораций обычные полевые цветы - шалфей, мак; вот так же я поразился, увидев, как над садиком наших друзей в Голландии протянул выводок цапель. Стихи - из разряда этих цветов, этих утесов, ничего общего с остальной архитектурой, несуществующей и вездесущей, они не имеют. И это вовсе не избитое сожаление о потерянном рае.
июль
Перечитал сборник стихов Кристины Лавант, составленный Томасом Бернхардом9. Прекрасно, как старые распятья деревенских церквей, как старая тканина - суровая, жесткая.
август
Думал об Анри Тома10, о посланной ему открытке, где изображен лекиф в форме девушки с лирой.
Изображение этого изображения, сможет ли оно ему помочь?
Сможет ли хоть какое-то жертвенное вино напоить дух в том краю?
Изображение девушки или изображение лиры в ее руках, или ее живое присутствие, само ее похожее на лиру тело, - сумеют ли они выручить старика там, где он теперь?
Или единственный выход - химия Морфея?
октябрь
Какие слова еще хватит твердости произнести на ухо умирающему или даже просто истосковавшемуся, потерявшему всякую надежду вернуть прошлое? Нужно найти - найти безошибочно - те, которые единственно уместны; и ни малейших фиоритур (хоть они и в родстве с цветами).
Есть ли вопрос серьезнее этого?
Удержать свет. Когда начинает смеркаться и видишь только смутные образы, только тени, преврати их в звук, сумей создать звук, который сохранит сияние для слуха. А когда заглохнут и звуки, выщелкни хоть искру света концами пальцев. Подумай: ведь над этим холодеющим телом сейчас вспорхнет то невидимое, чьим летучим отблеском в нашем мире служат птицы.
1993
сентябрь
Мягкий, погожий день. Чистка стоков в саду.
Водяные косички, которые расплетаешь, не замутив. Столько осеней в одной, написал об этом несколько строк.
Еще я подумал о Шаламове, который, покинув последний круг ада, край вечной мерзлоты, был одержим одной мыслью: вернуться к стихам. Такое должно развеять любые сомнения. Человек, избегнувший худшего, что может быть, нуждается в самых чистых словах. Никогда не забывать об этом.
Стихотворное слово, пишет он, еще на каторге, "это моя крепость посреди зимы".
октябрь
Шелест палых листьев, сухой, невесомый шелест, худосочный шорох, как будто они лишились тела, плотности, гибкости. Легкие, ломкие, начинающие твердеть - лишенные земных соков. Бабки, в которые на шахматных плитах дорожек небрежно играет ветер. Старики с хрупкими костями, тусклым взглядом.
***
Может быть, единственное стоящее сегодня - это несколько кратких слов без малейшего вибрато.
1994
декабрь
Встал чуть раньше обычного (еще только семь часов). Толкнул ставни на кухне, а над садом - сияющая Венера, как звук трубы, как крик радости, от которого разом рушатся любые стены.
Ив Бонфуа
ДАР ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ФИЛИППУ ЖАКОТЕ11
C САМОГО НАЧАЛА я хотел бы выразить свою радость: дар нашей признательности публично воздается сегодня Филиппу Жакоте. Я говорю "радость", вовсе не имея в виду, что подобное "признание" удовлетворит его самого (хотя он, вероятно, будет тронут, почувствовав себя предметом любви), а думая о том, что до сих пор его присутствие в поэзии выглядело слишком неброским, слишком скромным, из-за чего и могло пройти мимо многих людей, которые имеют полное право его знать, предрасположенные к пониманию этого поэта. Его книги давно пора оценить по достоинству, и я тоже хочу сказать о них несколько слов. Но я не способен углубиться в их разбор или анализ. В мыслях, если не в жизни, мы с Филиппом Жакоте настолько близки, что у меня нет ни отстраненности, ни даже известного холодка, которые тут необходимы. Поэтому разрешите мне ограничиться самым основным. А именно вот чем.
Поэзия, как любая человеческая деятельность, - занятие, к которому примешано многое. Все мы не раз видели и по сей день видим книги, созданные с опорой на такие интеллектуальные посылки и эмоциональные допущения, которые развивают истину бытия лишь в одном плане: словно творчество - это мечта о существовании, свободном от естественной необходимости или моральных обязательств и подчиненном лишь эстетическим задачам. В таком подходе есть своя неизбежность. И все-таки не стоит, по-моему, удовлетворяться подобной конструкцией творческого "я", а стоит, наоборот, умерить претензии этого по сути эгоцентрического проекта "выделки шедевров", призвав взглянуть вокруг, сделать шаг к единению и взаимности. Если творчество чем и замутнено, то именно такой особой установкой, когда автор пытается нас уверить, будто исходит в жизни (сначала - только мысленно) из тех же самых допущений, которым вынужден подчиняться в искусстве...
В этом смысле поиск Филиппа Жакоте поражает твердостью, с которой он, напротив, стремится сохранить верность нескончаемым и простым движениям общей жизни - движениям, не отмеченным ни особым полетом духа, ни собственной красотой, ни, так сказать, новым поворотом в развитии мысли, а попросту продолжающим изо дня в день саму преемственность человеческого существования, неизменную и открытую каждому очевидность наших естественных горизонтов. Этот непритязательный подход придает его словам доверительность и прямоту, роднящие их с нашими главными заботами. Открывая книги Жакоте, как будто получаешь от друга ответ на вопрос, который, кажется, задал себе вчера, но сам до конца не осознал его смысла. Почему и стихи Филиппа Жакоте, выступая, как любые стихи, особым и самодостаточным языком, остаются неподдельно близки к обыденной речи - речи, которой мог бы заговорить каждый из нас. Короче, над парадом слов (в любом смысле, который будет угодно придать этому последнему выражению) здесь торжествует присутствие человека...
С этой стороны (а именно ее стоит сейчас выделить, именно к ней я здесь и веду), открытые, просто сказанные стихи Жакоте, его как бы уже почти не стихи, наследие, к которому современная критика, занятая двусмысленностью письма, его ловушками, предполагаемыми свободами прочтения и тому подобными проблемами, продолжает сохранять настороженность, бесспорно представляют собой произведения искусства, поэзию в куда более тонком, глубоком, насущном для всех нас смысле. Перед нами - обретенная ценой отказа, совершенно новая красота. Сказанное им, при всей скромности, при всей его всегдашней скромности, удостоверено и весомо. Своеобразие, не заботясь о пустых химерах, достигает у него высшей ступени - универсальности, которая всегда нова. За очевидными противоречиями здесь стоит, я бы сказал, простой парадокс - парадокс, лишенный какой бы то ни было иронии, сама серьезность существования. И в этом - дополнительное богатство написанного Филиппом Жакоте: благодаря ему обращаешься к мыслям о природе поэзии.
Как вы знаете, поэзия, poiesis - вопрос одновременно и наболевший, и вечный. Создает поэт стихи или выговаривает? Что они такое - предмет или свидетельство, форма или порыв всего существа к открытости бытия? Филиппу Жакоте есть что сказать в этом споре. Например, вот что: да, стихотворение - предмет в те первые мгновенья, когда слова воздействуют на нас своей таинственной волей. Но в конце концов этот предмет не имел бы никакого смысла, не будь он связан с нашей сиюминутной заботой (чью глубину не надо приуменьшать!), и дело стихов - ее выспрашивать, расшевеливать, добиваться ответа. Стихотворение уничтожается по мере письма, где значимо в конечном счете только одно: преодоление предела, утвердительное преодоление, благодаря которому мы шаг за шагом приближаемся сами в себе к большей ясности. Эстетическая сторона стихов - явление сопутствующее, и тот, кто пожертвует ради нее истиной, допустит ошибку.
А теперь я хочу привести стихотворение Филиппа Жакоте, которое причисляю к самым прекрасным и значительным из мне известных. Оно - из книги "Непосвященный", носит то же название, и две его заключительные строки наилучшим образом выражают то, что я пытался здесь сформулировать. Вот эти стихи:
Чем глубже старюсь я,
тем меньше посвящен,
чем старше делаюсь,
тем я скудней и ниже.
И что здесь моего? Округа,
где порою
То снег, то солнечно?
Но я здесь ни при чем.
А где хозяин, где хранитель
и вожатый?
Стеснясь до комнатки,
стараюсь не шуметь
(впуская тишину - прибраться,
как прислугу)
и жду, когда обман рассеется
вконец:
так что осталось мне?
что полумертвецу
мешает умереть? Что не дает
умолкнуть
и в четырех стенах толкает
говорить?
Успею ли узнать, неутомимый
неуч?
Но голос слышится, и внятные
слова
доходят с первыми туманными
лучами:
"И пламя, и любовь горят одним
- утратой
и красотой того, что сожжено
дотла..."
Перевод с французского
Бориса Дубина
1ФИЛИПП ЖАКОТЕ (род. в 1925 г.) - швейцарский поэт, пишет на французском языке, с 1946 г. живет во Франции. Автор стихотворных сборников "Сова и другие стихотворения" (1953), "Уроки" (1969), "Навеянное облаками" (1983), книг прозы "Прогулка под деревьями" (1957), "Виды с отсутствующими фигурами" (1970), "Кристалл и дым" (1993), сборников статей о литературе "Собеседование муз" (1968), "Тайное соглашение" (1987), биографии Рильке. Переводчик Гомера, Гонгоры, Гельдерлина, Леопарди, Рильке, Т. Манна, Музиля, Унгаретти, Мандельштама, японских хокку. Лауреат литературной премии Монтеня (1972), Большой поэтической премии Парижа (1986), Большой национальной премии Франции за перевод (1987), премии Петрарки (1988), премии Сообщества французских писателей (1998) и др.
Переведено по изданию: Jaccottet Ph. La seconde semaison. Carnets 1980-1994. Paris, Gallimard, 1996. В русском переводе страницы из первой книги "Самосева" опубликованы в сборнике: Филипп Жакоте. Стихи, проза, записные книжки. - М.: "Carte Blanche", 1998. До этого на русском языке выходила книга стихов Жакоте "В свете зимы" (М., 1996), некоторые его стихи и эссе печатались в антологиях, в газетах "Сегодня" и "Ex libris НГ".
2 "Воспоминания": "В той старинной комнате,// Освещенной снегом..." (итал.).
3Миларепа (1040-1123) - тибетский поэт-мистик.
4"L"ignorant" - сборник стихов Ф. Жакоте (1957 г.)
5Поэма персидского поэта-суфия Фарид-ад-дина Аттара (ок.1175); Питер Брук поставил по ней спектакль в 1973 г.
6Книга поэтических афоризмов Анри Мишо (1971).
7"Эфемер" - журнал литературы и искусства, который издавали в Париже в 1967-1972 гг. поэты Ив Бонфуа, Луи-Рене Де Форе (род. в 1918 г.), Андре Дю Буше (род. в 1924 г.), Жак Дюпен (род. в 1927 г.) и литературно-художественные критики Борис де Шлецер (собственно Борис Федорович Шлецер, 1881-1969) и Гаэтан Пикон (1913-1976), а также присоединившиеся к ним позднее Мишель Лейрис (1901-1990) и Пауль Целан (1920-1970).
8Жубер Жозеф (1754-1824) - французский мыслитель и писатель эпохи раннего романтизма, автор максим и афоризмов о морали, искусстве, душевной жизни, составивших "Дневники", изданные лишь посмертно (1838, затем - 1842).
9Лавант Кристина (наст. фамилия Тонхаузер, 1915-1973) - австрийская поэтесса, прожила жизнь в бедности и болезнях, умерла непризнанной; Бернхард Томас (1931-1989) - австрийский поэт, романист и драматург.
10Тома Анри (1912-1993) - французский поэт и прозаик, входил в литературную группу "84", Жакоте подружился с ним во второй половине 40-х годов, рецензировал его книги.
11Запись выступления по Швейцарскому франкоязычному радио, опубликована в женевском журнале "Литературное обозрение" ("La revue de belles-lettres", 1973, N 3/4).














.jpg)