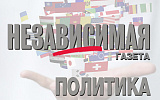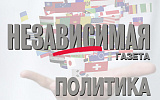Ален Бадью
BО ФРАНЦИИ сегодня живет не так уж много философов, хотя их здесь, наверное, больше, чем где-либо еще. Чтобы их пересчитать, достаточно, пожалуй, будет десяти пальцев. Да, с десяток философов, если понимать под этим тех, кто предлагает нашему времени свои особые, опознаваемые формулировки, и, следовательно, оставить в стороне как комментаторов, так и незаменимых эрудитов и суетных эссеистов.
ВОЗМОЖНОСТЬ
Десять философов? Или, скорее, "философов"? Ибо, как ни странно, большинство из них утверждает, что философия невозможна, исчерпана, передана в ведение чего-то иного. Лаку-Лабарт, к примеру: "Более не следует желать философии". И почти одновременно Лиотар: "Как архитектура философия лежит в развалинах". Но можно ли представить себе философию, лишенную всякой архитектоники? "Письмо в развалинах", "микрология", претерпевание "граффити" (для Лиотара это метафоры современного стиля мышления) - не омоним ли это уже только "философии", как ее ни понимай? Или еще: не был ли величайший из наших мертвецов, Лакан, "антифилософом"? И как трактовать тот факт, что Лиотар может затронуть судьбы Присутствия, лишь комментируя картины, что последняя большая книга Делеза посвящена кино, что Лаку-Лабарт (как в Германии Гадамер) занимается поэтическими предвосхищениями Целана, а Деррида не может обойтись без Жене? Почти все наши "философы" пребывают в поисках окольного письма, побочной поддержки, косвенных референций, дабы уклончивым образом перейти к захвату позиций на считающейся необитаемой философской территории. И вот что мы обнаруживаем в центре этих обходных маневров - тревожной грезы того, кто не является ни поэтом, ни верующим, ни "евреем", - усугубленное к тому же бесцеремонными поучениями по поводу национал-социалистической ангажированности Хайдеггера: перед лицом возбужденного против нас эпохой дела, за чтением материалов судебного процесса, главными среди которых являются Колыма и Освенцим, наши философы, взваливая на свои плечи сей век (а в конечном счете - и череду веков со времен самого Платона), решили признать себя виновными. Ни многажды допрашивавшиеся ученые, ни военные, ни даже политики не сочли, что бойни нашего века всерьез и надолго повлияли на их гильдии. Социологи, историки, психологи - все процветают в невинности. Одни только философы глубоко усвоили, что мысль, их мысль, столкнулась с историческими и политическими преступлениями нашего века - и всех веков, его породивших, - сразу и как с препятствием для какого бы то ни было продолжения, и как с трибуналом, под который идет за интеллектуальные - коллективные и исторические - должностные преступления.
Конечно, в философизации интеллектуальности преступления можно увидеть изрядную гордыню. Когда Лиотар ставит в заслугу Лаку-Лабарту "первое философское определение нацизма", он считает само собой разумеющимся, что подобное определение может проходить по философскому ведомству. А ведь это отнюдь не очевидно. Мы знаем, например, что "определение" законов движения к философии ни в коей мере не относится. Со своей стороны, я утверждаю, что даже древний вопрос о бытие как бытие - не только ее вотчина: это вопрос из области математики. И, стало быть, вполне возможно представить, что определение нацизма (к примеру, нацизма как политики) не подпадает под юрисдикцию той специфической мыслительной формы, которая со времен Платона удостаивается имени философии. Не исключено, что наши скромные провозвестники философского тупика сохраняют, хранят, преследуют идею, в соответствии с которой философии подпадает "все". А ведь нужно, конечно же, признать, что одним из результатов этого спекулятивного тоталитаризма была приверженность Хайдеггера к национал-социализму. Что сделал на самом деле Хайдеггер, как не допустил, что воплощенное нацистами "коренное решение" немецкого народа было переходным к его мысли, мысли профессора герменевтики? Полагать, что философия - и только она одна - ответственна за возвышенные ли или за отталкивающие аватары политики в наш век, - это нечто вроде коварной уловки гегелевского разума, проникающего в самый сокровенный строй наших антидиалектиков. Это - постулировать, что существует некий дух времени, главнейшее определение, принципом, чтобы схватить и отжать которое, служит философия. Начнем уж лучше, вообразив, что, к примеру, нацизм как таковой не является возможным предметом философии, что он вне тех условий, которым в рамках своего собственного строя способна придать форму философская мысль. Что он не служит для этой мысли событием. Отнюдь не подразумевая, будто он не подвластен осмыслению.
Ибо когда наши философы из аксиомы, которая приписывает философии бремя ответственности за преступления века, извлекают в связке друг с другом выводы о тупике философии и неосмысляемом характере преступления, гордыня превращается в опасную несостоятельность. Для тех, кто полагает, что мы должны философски оценить истребление в Европе евреев с точки зрения хайдеггеровской мысли, тупик и в самом деле бросается в глаза. Чтобы выпутаться из этого, утверждают, будто тут присутствует нечто неосмысляемое, необъяснимое, завал на пути любой концепции. Готовы, чтобы спасти ее гордость, принести в жертву саму философию: коли философия должна осмыслить нацизм, а ее для этого не хватает, то дело тут в том, что она должна осмыслить неосмысляемое, что философия зашла в тупик.
Я предлагаю принести императив в жертву и заявить: если философия неспособна осмыслить истребление в Европе евреев, то дело тут в том, что это осмысление не входит ни в ее обязанности, ни в ее возможности. Дело в том, что сделать эту мысль действительной выпадает другому строю мысли. Например, мысли историчностной, то есть мысли об Истории, испытуемой с точки зрения политики.
В действительности объявлять о "конце", завершении, радикальном тупике всегда нескромно. Провозглашение "конца великих повествований" столь же нескромно, как и само великое повествование, убежденность в "конце метафизики" движется в метафизической стихии убежденности, деконструкция понятия субъекта требует некоей центральной категории - бытия, к примеру, - историчностная предписанность которой еще более определенна, и т.д. Оцепеневшая от трагичности своего предполагаемого предмета - истребления, концлагерей - философия преображает свою собственную невозможность в трагическую позу. Она рядится в мрачные цвета эпохи, не обращая внимания на то, что эта эстетизация тоже несправедлива по отношению к жертвам. Покаянное олицетворение низостей - точно такая же поза, позерство, как и медные трубы кавалерии второго пришествия Духа, а конец Конца Истории скроен из той же ткани, что и сам этот Конец.
Стоит ограничить ставки философии, и пафос ее "конца" уступает место совершенно иному вопросу, вопросу ее положения, ее условий. Я не утверждаю, что философия возможна постоянно. Я предлагаю вообще присмотреться, при каких условиях она - сообразно своему предначертанию - становится возможной. Не следует бездумно принимать тот факт, что историческое насилие может ее прерывать. Объявить, что Гитлер и его приспешники оказались способны ввести в мысль немыслимое и тем самым довершить приостановку ее архитектурного осуществления, - это просто-напросто признать за ними некую странную победу. Не на счет ли фанатического антиинтеллектуализма нацистов нужно отнести тот реванш, что последовал за его военным разгромом, когда сама политическая или философская мысль не в состоянии на самом деле оценить то, что намеревалось ее уничтожить? Я говорю так, как я думаю: возводить смерть евреев в причину конца того, во что они внесли определяющую лепту - с одной стороны, революционной политики, с другой - рационалистической философии, - означает вторично предавать их смерти. По самой своей сути почтение в отношении жертв не может быть укоренено в оцепенении духа, в его самообличительной нерешительности перед лицом преступления. Оно извечно коренится в продолжении того, что делало их в глазах палачей представителями Человечества.
Я не только утверждаю, что философия сегодня возможна, я утверждаю, что эта возможность не есть по форме преступание через некий конец. Напротив, предстоит разобраться, что означает сделать еще один шаг. Всего один шаг. Шаг в современную конфигурацию, ту, что со времен Декарта связывает условия философии с тремя узловыми понятиями, каковыми являются бытие, истина и субъект.
УСЛОВИЯ
Философия некогда началась; она существует не во всех исторических конфигурациях; модус ее бытия - прерывистость как во времени, так и в пространстве. Следует, стало быть, предположить, что ей требуются определенные условия. Стоит оценить дистанцию между греческими городами, абсолютными монархиями классического Запада, обществами буржуазного парламентаризма, и тут же станет ясно, что всякая надежда определить условия философии на основе единственно объективной платформы "общественных формаций" или даже на основе великих идеологических, религиозных или мифологических дискурсов обречена на провал. Условия философии трансверсальны, это некие постоянные, распознаваемые на большом протяжении процедуры, чья соотнесенность с мыслью относительно неизменна. Имя этой неизменности ясно: речь идет об "истине". Обусловливающие философию процедуры - процедуры истинностные, идентифицируемые в этом качестве своей повторяемостью. Мы уже не способны верить в россказни, которыми группа людей навораживает себе истоки или свою судьбу. Мы знаем, что Олимп - всего-навсего холм, а Небеса наполняет разве что водород или гелий. Но что ряд простых чисел неограничен, доказывается сегодня в точности так же, как и в "Началах" Евклида; нет никаких сомнений, что Фидий - великий скульптор; что афинская демократия является политическим изобретением, тема которого занимает нас до сих пор, а любовь свидетельствует о проявлении Двоицы, в котором цепенеет субъект, мы понимаем, читая как Сафо или Платона, так и точно так же Корнеля или Беккета.
Тем не менее все это существовало не всегда. Есть и общества без математики; в других "искусство" в слиянии с устаревшими священными функциями остается для нас непроницаемым; в третьих отсутствует или не имеет выражения любовь; в некоторых, наконец, деспотизм так и не дал места политическому изобретательству и даже не позволил о нем помыслить. И уж подавно эти процедуры не всегда существовали вместе. Если Греция увидела рождение философии, то не потому, конечно, что хранила Священное в мифическом источнике поэмы, и не потому, что в обличии эзотерических речений о Бытии ей была знакома прикровенность Присутствия. К священному хранилищу бытия в поэтических изречениях имели доступ и многие другие древние цивилизации. Особенность Греции скорее в том, что она прервала повествование об истоках секуляризированной и абстрактной речью, подорвала авторитет поэмы авторитетом матемы, представила себе Город как открытую, спорную, вакантную власть и вынесла на публичную сцену бури страсти.
Первая философская конфигурация, которая вознамерилась расположить эти процедуры - совокупность этих процедур - в едином понятийном пространстве, удостоверяя тем самым в мысли, что они совозможны, носит имя Платона. "Негеометр - да не войдет" - предписывает матема как условие философии. Болезненная отставка поэтов, изгнанных из города по причине подражания - читай: излишне восприимчивых в схватывании Идеи, - показывает одновременно и что предметом разбирательств служит поэма, и что ее нужно соразмерять с неизбежным прерыванием россказней. "Пир" и "Федр" сочленяют любовь в истинной в непревзойденной форме. Наконец, политическое изобретение преподносится как сама текстура мысли: в конце 9-й книги "Государства" Платон в явном виде указывает, что идеальный Город не есть ни программа, ни реальность, а вопрос, существует ли или может ли он существовать, не представляет никакого интереса и что речь тем самым идет здесь не просто о политике, а о политике как условии мысли, о внутрифилософской формулировке причин, по которым философия существует только тогда, когда у политики имеется реальный статус некоего возможного изобретения.
Итак, мы заявляем, что имеются четыре условия философии, причем изъян даже в одном из них ведет к ее рассеиванию, точно так же, как их совокупное появление обусловило ее возникновение. Эти условия суть матема, поэма, политическое изобретение и любовь. Мы называем эти условия родовыми процедурами по причинам, к которым я вернусь далее и которые составляют самый центр моего "Бытия и События". Этими же причинами и определяется, что четыре эти типа родовых процедур уточняют и классифицируют в наши дни все способные порождать истины процедуры (истина бывает только научной, художественной, политической или любовной). Тем самым можно сказать, что условием философии служит наличие истин в каждом из классов, где они удостоверяемы.
Тогда мы сталкиваемся с двумя проблемами. Во-первых, если условиями философии служат истинностные процедуры, то это означает, что сама по себе она истин не производит. В самом деле, эта ситуация хорошо известна; кто сможет процитировать хотя бы одно философское высказывание, о котором имело бы смысл говорить, что оно "истинно""? Но тогда что же в точности в философии на кону? Во-вторых, мы предполагаем, что философия "одна", в том плане, что законно говорить о Философии, определять какой-либо текст как философский. В каком отношении находится это предполагаемое единство со множественностью условий? Каков этот узел четверицы (родовых процедур - матемы, поэмы, политического изобретения и любви) и одного (философии)? Я собираюсь показать, что на эти две проблемы имеется один и тот же ответ и содержится он в определении философии, представленной здесь как недейственная истинность при условии действенности истинного.
Истинностные процедуры, или процедуры родовые, отличаются от накопления знаний своим событийным происхождением. Пока случается только то, что соответствует правилам некоего положения вещей, возможны, конечно же, познание, правильные высказывания, накопление знаний; невозможна здесь истина. Истина парадоксальна тем, что она одновременно и внове, следовательно, нечто редкостное, исключительное и, затрагивая само бытие того, истиной чего является, наиболее прочна, наиболее, говоря онтологически, близка к исходному положению вещей. Рассмотрение этого парадокса требует длительных рассуждений, однако же ясно, что происхождение какой-либо истины - из разряда событий.
Короче говоря, назовем "ситуацией" какое-то положение вещей, произвольную представленную множественность. Для разворачивания относящейся к ситуации истинностной процедуры необходимо, чтобы эту ситуацию пополнило некое чистое событие. Это пополнение оказывается неименуемым, не представимым ресурсами самой ситуации (ее структурой, установленным для называния ее терминов языком и т.д.). Оно вносится особым именованием, запуском сверх того еще одного означающего. Именно последствия ввода в игру в данной ситуации еще одного имени и запускают родовую процедуру, вносят предвкушение истины этой ситуации. Ибо изначально в ситуации нет, если ее не дополняет какое-либо событие, никакой истины. В ней есть только то, что я зову достоверностью. По диагонали, походя, шанс на истину есть у всякого достоверного высказывания, стоит какому-то событию столкнуться со своим избыточным именем.
Специфическая цель философии - предложить единое концептуальное пространство, в котором обретают свое место именования событий, служащих отправной точкой истинностных процедур. Философия стремится собрать вместе все прибавочные имена. Она мысленно рассуждает о совозможном характере обусловливающих ее процедур. Она не устанавливает никакой истины, а предоставляет истинам место. Она формирует родовые процедуры приятием, предоставлением прибежища, созданного в соответствии с разнобоем их одновременности. Философия приступает к осмыслению своего времени, превращая в общее место положение обусловливающих ее процедур. Ее операторы, каковыми бы они ни были, всегда стремятся осмыслить "совокупно", сформировать в проведении единой мысли присущую эпохе расстановку матемы, поэмы, политического изобретения и любви (или событийного статуса Двоицы). В этом смысле единственным вопросом философии как раз и является вопрос истины - не потому, что философия какую-либо истину порождает, а потому, что она предлагает модус доступа к единству момента истин, концептуальный ландшафт, где родовые процедуры отражаются как совозможные. (┘)
СОВРЕМЕННОСТЬ
Концептуальные операторы, которыми философия выстраивает свои условия, помещают, вообще говоря, мысль своего времени, сообразуясь с парадигмой одного или нескольких из этих условий. Главным референтом для развертывания совозможности условий служит какая-нибудь родовая процедура, близкая по событийному месту происхождения или натолкнувшаяся на тупики собственного упорства. Так в контексте политического кризиса греческих городов и "геометрической" переработки - вслед за Евдоксом - теории величин Платон приступает к превращению математики и политики, теории пропорций и Города как императива, в осевые референции мыслительного пространства, функцию которого обозначает слово "диалектика". Как математика и политика онтологически совозможны? Таков платоновский вопрос, средство рассосать который представит оператор Идеи. Поэзия вдруг окажется под подозрением - но это подозрение является вполне допустимой разновидностью формирования, а любовь, по выражению самого Платона, свяжет внезапность встречи с фактом, что некая истина, в данном случае - истина Красоты, предстает неразличимой, не будучи ни речью (логос), ни знанием (эпистема).
Условимся называть "периодом" философии отрезок ее существования, когда продолжается тип устроения, определяемый одним главенствующим условием. На протяжении всего такого периода операторы совозможности зависят от этой специфической определенности. В особом, послесобытийном состоянии, в котором они находятся, период завязывает четыре родовые процедуры в узел под юрисдикцией понятий так, что одна среди них вписывается в пространство мысли и обращения, которое философски служит определению этого времени. В платоновском примере Идея, очевидно, - оператор, скрытым "истинным" принципом которого является математика; политика изобретается как условие мысли под юрисдикцией Идеи (отсюда и царь-философ, и примечательная роль, которую в воспитании этого царя - или стража - играют арифметика и геометрия); а подражательная поэзия удерживается на расстоянии, тем более что, как показывает Платон и в "Горгии", и в "Протагоре", существует парадоксальное сообщничество между поэзией и софистикой: поэзия является тайным, эзотерическим измерением софистики, поскольку доводит до апогея гибкость, переменчивость языка.
Вопрос тогда для нас состоит в следующем: существует ли современный период философии? Острота этого вопроса связана сегодня с тем, что большинство философов заявляют, с одной стороны, что в действительности такого периода не существует, а с другой - что мы - современники его завершения. Таков смысл выражения "пост-модерн", но даже у тех, кто воздерживается от его потребления, всегда присутствует тема "конца" философской современности, исчерпания бывших ей свойственными операторов (в особенности - категории Субъекта), будь то и под схемой конца метафизики. Чаще всего, впрочем, этот конец приписывается изречениям Ницше.
Если мы эмпирически обозначим современность как "новое время", то есть период с Ренессанса и по сегодняшний день, трудно, конечно же, говорить о каком-то периоде в смысле неизменности иерархии в философской конфигурации условий. В самом деле, очевидно, что:
- в классическую эпоху, эпоху Декарта и Лейбница, под влиянием галилеевского события, сущность которого - введение бесконечности в математику, главенствует условие математическое;
- начиная с Руссо и Гегеля, скандируемая Французской революцией совозможность родовых процедур находится под юрисдикцией историко-политического условия;
- между Ницше и Хайдеггером посредством антиплатоновской обратной связи в операторы, которыми философия определяет наше время как время забывчивого нигилизма, возвращается уже искусство, в центре которого - поэзия. (┘)
Определить современный период философии удобно через центральную, организующую роль, которую играет в нем категория Субъекта. Хотя эта категория и не предписывает какой-либо тип конфигурации, какой-то устойчивый режим совозможности, ее хватает, что касается постановки вопроса: завершен ли современный период философии? Другими словами: требуется ли для того, чтобы предложить в наше время пространство совозможности расточаемым мыслью истинам, поддержка и использование - пусть даже глубоко искаженное или подрывное - категории Субъекта? Или же, напротив, наше время таково, что мысль требует деконструировать эту категорию? (┘)
Остаемся ли мы все еще - и на каком основании - галилеевцами и картезианцами? Способны ли еще Разум и Субъект служить векторами для философских конфигураций, даже если Субъект лишен центра или пуст, а Разум подчинен избыточной случайности события? Является ли истина прикровенной несокрытостью, риск которой вбирает в слова одна только поэма? Или же философия обозначает так в своем собственном пространстве разъединенные родовые процедуры, которые плетут смутное продолжение Нового времени? Должны ли мы продолжать или поддержать в ожидании размышления? Таков сегодня единственный полемически значимый вопрос: решить, остается или нет форма мысли нашего времени, философски просвещенная событиями любви, поэмы, матемы и изобретенной политики, связанной с той диспозицией, которую Гуссерль опять-таки назвал расположенностью к "картезианскому размышлению".