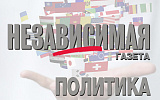|
Теперь - обещанный перечень лучших русских романов века, в алфавитном порядке авторов и с краткими характеристиками произведений.
Даниил Андреев. "Роза мира"
Oн израсходовал залежь интеллектуальных ресурсов, аргументируя неотлагаемое пришествие великой Розы - свадьбы церквей, их воссоединительного перевоплощения в межисповедную сверхмолельню, и доводы рассудка выказали свою несущественность, не сравнимую с тем, что открылось Андрееву в первозданном мистическом постижении. Роза расцветает в стороне от чьих-либо намерений и доказательств, ее можно только увидеть, там, где она и явилась творцу ее лепестков, в смрадной преисподней, возле параши, принявшей форму абсолютного низового ничто. (Неподалеку, под нарами, Лев Гумилев, создатель другой восхитительно тюремной доктрины - ибо чем, как не тоскою по воле, объяснить упоение степными кочевьями и ненависть к крепким стенам городов, - ощутил прикосновение жгучих крыльев пассионарности, есть легенда, что авторы встречались в темнице, происходило взаимодействие мыслей, и андреевский романизированный свод озарений освещен также лапидарной, как фотовспышка, гипотезой, трактующей о внезапных движениях вдаль, в неизвестность племен и народов.) Роза сошла к Андрееву не одна. Он узнал все небесные отрасли мира, иерархии уровней и слоев, отвратительную животность населяющих космос уродов, чавкающую бойню демонов государственности, уицраоров, ослепительно выследил, что Армагеддон случится в Сибири, и осуществил главную мечту русских писателей первой половины столетия - вступил в непосредственное общение с Иосифом Сталиным. Во глубине львиного рва Даниил держал повелителя царства и единственного соперника своего на ладони, предрекая ему гибель богов. Около сорока печатных листов достаточно внятного визионерства и галлюциноза, опыт провидчества, тем более тавтологичного, что роза это роза, как сказано в "Анти-Дюринге" и повторено американской авангардисткой.
Исаак Бабель. "Конармия"
Память сначала цепляется за восточную пылкость стиля, упираясь затем в нервный узел русского и еврейского. Активность евреев идейная, их томление - о преображении сущего, осиянного иудейским вопрошающим смыслом и православной строительной кровью. Действия русских испытывают грань между жизнью и смертью, располагаясь на ускользающем перешейке, за которым подвижное и кричащее становится косным, немым и статичным; отсюда обряды мучительства и воскрешение старинных жертвенных фабул заклания (отец убивает сына, сын кончает отца). Расширенное созревание, плодоношение силы и пахучее буйство отличают русскую плоть. Бледная скудость и воспаление близорукого чувства свойственны плоти еврейской, боящейся обретаться близ лошадей, потных женщин, тачанок и выискивающей талмудический притчевый корень в риторике газетной страницы. Оба национальных, религиозных и плотских начала, присужденные к слитному страданию в истории, объединены святым телом События - Революции, наблюдаемой глазами еврея. То неповторимый взгляд постороннего соучастника, его дуальная оптика до сих пор фиксирует гнойные зоны славяно-семитских касательств и связей. Русский не мог бы с такой последовательностью дистанцироваться от своего и чужого; особому искусству невозмутимости, эмоциональной, жестокой, бьющей навылет, не вполне научилась и новейшая литература России. Но выставлять дело так, будто книга написана прикомандированным к наполеоновской армии чужаком, тоже неверно. Чужак не передал бы благоговейной раздавленности, охватывающей повествователя, когда он окончательно проникается, что прикован к стране и не вырвется из ее лап.
Андрей Белый. "Петербург"
Хронологически первая экспериментальная проза столетия, глубоководная бездна, священное озеро с утонувшими в нем и градом и колоколом. Слово "концептуальный" захватано до неприличия, но это и первый концептуальный роман, в специальном значении термина, примененном более полувека спустя к литературной и изобразительной практике, так переплавившей творчество и анализ, что ни единая молекула текста не избежала рефлексии. Ошеломительность беловской новизны опустила занавес над эпохой невинности, ибо все, что с начала начал мнило себя до краеугольных, определяющих романное самосознание мифопоэтических схем, было уличено в причастности условнейшему из договоров с постоянно меняющимся содержанием статей. Петербург воздвиг свою твердь на болотах. "Петербург" вознесся над расколдованными параграфами литературной конвенции, питаясь их от природы волюнтаристским притворством и открывая в нем новую, на сей раз уже безусловную - ведь ее разоблачили - магию власти. Литература тут выступает объектом безжалостной оперативной любви. Национальные мифы портретируются с чудной наглядностью, точно фотограф заснял их компактною группой, рассевшейся у стола на манер "Общества борьбы за освобождение рабочего класса". Тотальная конструктивность, но истинная сила книги в трагичном, глумливом и распятом голосе. Он поднимается ввысь и, паря в окутавшей страну пелене, плененно стенает, беснуется, мечется, кричит о нашествии оккультного морока, предрекает беду (будет, будет новая Калка) и сжигает себя в ярко-алой, как плащ домино, стихии лирической подлинности, предвестии мессианских пожарищ.
Артем Веселый. "Россия, кровью умытая"
Гроссмейстер Нимцович, объясняя динамику пешечных расположений, иллюстрировал ее примерами из литературы и кинематографа, обратившихся к изображению масс. В этом была не скоропортящаяся мода искусств, но, говоря словами дадаистского манифеста, многотысячная правда времени, правда 10-х, 20-х, 30-х годов. Никто не дал более мощного, осязаемо убедительного движения коллективов, чем их эпический поэт Веселый, заслуживающий называться крупнейшим экспрессионистом России, и если бы из сонма эпохальных свидетельств надо было выбрать одно, я остановился б на книге Артема, ибо речь его совершалась в безвыходном круге проклятий, упоения и крови. Пятнадцать лет смотрел он в лицо толпе, пренебрегая ее гуртовой психологией, тщеславием вождей и вожатых, концентрируя лучи ума своего на религиозном собирании в массу, на этом вселенском, в русских пространствах, соборе. Он занимался плотностью и весом орд, он следил за рассеянием толп и тем, как, рассыпавшись, они стягивались в новую ртутную целостность. От него, жившего жизнью страны, вряд ли укрылось, что за годы, потраченные им на книгу, революционные массы стали другими, что их несколько раз подвергали процеживанию и селекциям, в результате чего массы существенно поредели, и тогда он принял обет спасти всех хотя бы в написанных им страницах, где солнце народа и революции навсегда застыло в зените, а если спасение не удастся, то умереть, как умирали другие. Артем Веселый разделил судьбу российских толп - он был расстрелян.
Максим Горький. "Жизнь Клима Самгина"
Апокриф гласит, что автор, будучи спрошенным, кто прототип Самгина, молча начертил тростью в пыли садовой дорожки имя героя и обвел кружочками два сочетания букв "Сам" и "МГ". Роман задуман и начат свободным писателем, примерно к середине третьего тома (две с половиною книги из четырех гениальны) наступает внутренний слом, вызванный тем, что по мере приближения заглавного персонажа к 1917 году автор все менее знал, как отнестись к этой поучительной вехе истории. В клубке эмоций, опутавших его больную душу, одно чувство подчинило себе остальные: растерянность старого литератора, не понимающего, способен ли он дальше вести строку таким образом, чтобы читатель не догадался об этом страшном смятении. Рука уже не держала перо, мы вообще затрудняемся объяснить, как ему удалось завершить свою прозу (впрочем, он ее, разумеется, не окончил), но в нарастающей панике - так брошенное войско видит опускающуюся с небосвода смерть - таится неостывшая прелесть романа. Современник рассказывал, что Горький помнил имена всех исхоженных в молодости деревень и всех встреченных им людей. "Самгин" - плачевная оргия памяти, циклопический мемориал. Тадж-Махал любви к России, любви тяжелой, истерзанной, и недаром плодом ее стало множество шаржированных уродцев всех сословий, профессий и званий, насельников мавзолея усопшего мира. Горький покрывает Россию, как Зевс свою европейскую телку, он прощается с ней накануне рокового события, сводя счеты с героем, которому сквозь ненависть соболезнует, потому что это он сам в зеркалах обреченности.
Илья Зданевич (Ильязд). "Восхищение"
В начале 30-х несколько ключевых фигур русского футуризма, стремясь оправдать свою молодость, выступили с отчетами об антибуржуазном прошлом движении, и пронизанный славяноазийскими историософскими обобщениями "Полутораглазый стрелец" Бенедикта Лившица встал в ряд с простеньким мемуаром "Наш выход" Алексея Крученых, чей сервилизм выдался слишком испуганным, чтоб просочиться в уважавшую ненаигранный пафос печать (дивное диво - этот же человек взорвал некогда воздух роскошными стихами и декларациями). Книга крайнего футуриста Зданевича, крохотным тиражом опубликованная парижским издательством в марте 1930-го и спустя 65 лет в столь же мизерном числе экземпляров перепечатанная московским энтузиастом, по мнению комментатора, с которым мы солидарны, должна быть прочитана как аллегория восхождения и гибели будетлянства, развернутая у кавказских отрогов и близ снежных вершин, в окружении старцев, разбойников, красавиц, сокровищ и кретинов, распевающих нечленораздельные песни. Главным преимуществом автора-эмигранта перед теми, кого он оставил в Москве и Тифлисе, оказалась свобода от исповедального покаяния, и он употребил ее на создание волшебной, как заговор колдуна, прозы, коей почти первобытная баснословность изложена речным и глубоким, промывающим зрение языком. Ничего подобного до Ильязда в русской литературе не было, так что пессимистический роман о падении левого искусства не с чем сравнить, разве с иными прозрачными тканями Хлебникова, тоже сочетавшего авангард и архаику. "Восхищение", вероятно, навсегда разминулось с известностью, и причиной не эзотеричность романа, но бездарность русских оценщиков и пропагандистов. Потребителей зрелого Джойса, умеющих получить от "Улисса" и тем паче "Поминок" нелицемерное удовольствие, вовсе не миллионы, а стражи английского слова, критики и профессора, хладнокровно ставят ирландца, не смущаясь его герметизмом, на первое место в столетии. Известие о самоубийстве Маяковского Зданевич получит через несколько дней после выхода книги.
Михаил Зощенко. Все написанное
Исследование советского муравейника как цивилизации небывалого типа, в то же время до странности узнаваемого. Лучше поэта не скажешь: Библия труда, автор заслуживает памятников по стране. Опись переходных состояний сознания - социалистического, в тибетских терминах говоря, Бардо, когда после освобождения от колеса превращений, нависавшего нестерпимым возвратом к ветхой культуре и отреченному гуманизму, душе открывается путь рождения в счастливой земле, месте пребывания бессчетного племени праведников, изъясняющихся на коммунально-барачном жаргоне и почему-то подверженных там же страстям и порокам, что люди до сотворения мира. В записанных философом Л.Липавским разговорах обэриутов читаем: "Что в общем произошло? Большое обнищание, и цинизм, и потеря прочности. Это неприятно. Но прочность, честь и привязанность, которые были раньше, несмотря на какую-то скрытую в них правильность, все же мешали глядеть прямо на мир. Они были несерьезны для нас... И когда пришло разоренье, оно помогло избавиться от самообмана". Подобно обэриутам, Зощенко обладал взглядом, избавленным от самообмана, но в отличие от этих катакомбных мыслителей у него было ясное утопическое намерение устранять порчу и заблуждения посредством литературного слова (из обэриутов в этом отношении с ним сходствует, пожалуй, один Заболоцкий). Он пишет смешно не для того, чтобы публику рассмешить, а в силу утрированного, выделенного положения слова, занимающего примерно ту же позицию, что и, допустим, визуальный объект в поп-артной эстетике. Проза его наставительная, проповедническая, иногда прямо житийная, он стремится влиять на умы и на совесть, исцеляя человека и общество. Значение Зощенко возрастает. Его творчество бодрствует у истоков какой-то еще не явившейся литературы.
Всеволод Иванов. "У"
Формальный план книги, несколько десятилетий пролежавшей в запасниках, обрисован отчетливо Шкловским. Схема петрониевского романа, дно города, похождения очень талантливых авантюристов, время приурочено к сносу храма Христа Спасителя (от себя и в скобках заметим, что авантюристы, затеяв наконец довершить ретортное выкипячивание Адама советикуса, вербуют рабсилу и подключаются к другим сомнительным мероприятиям). Похоже на бахтинскую мениппею, однако Шкловский с автором этой теории враждовал и термина избегал. Содержательная сторона романа осталась в тумане, и если я правильно ее различаю, сводится (о, конечно, не сводится) к показу формирования закрытого общества. Отгороженное от всего, что извне, мутное и липкое внутри, оно подавляет свободные коммуникации, вытесняя их устным преданием: сплетнями, косвенной речью, шепчущей подозрительностью. Атмосфера мистифицирующей провокации достигается душным, пародийно-двусмысленным языком, главным агентом романного действия, и структура этой речи удивительна. Представим, что "Столп и утверждение истины" о. Павла Флоренского, не поступившись ни византийской червоточивостью, ни изуверской церковною сладостью, ни упованием натурально, без винно-просфорных заместительных околичностей, причаститься крови и плоти Спасителя, представим, что этот сочащийся ересью богословский эпистолярий перетек в плутовское советское повествование, и тогда нам откроется психологос романа. Он плохо усвоен даже ценителями искусства Иванова.
Илья Ильф, Евгений Петров. "Золотой теленок"
Читатник поколений, редкий образчик нигилистической лирики и бесслезного, чреватого мизантропией тупика, в котором холодеет религия и не помогает агностицизм (ср. "Записные книжки" Ильфа). Странное, загадочное сочинение об отщепенстве, внутренней эмиграции и поражении огромного среза культуры. Проза с непредумышленным зарядом идей, вырвавшихся за пределы лояльного замысла. Более подробное толкование книги, буквально взывающей, чтобы ее рассмотрели в международном "контексте" литературы о тщете любого усилия (напрашивается, кстати сказать, и Селин), приберегу для специального разговора.
Эдуард Лимонов. "Это я - Эдичка"
Молодой человек честолюбивой наружности и поэтических дарований, воспитанник государства, в котором, в отступление от велемудрых заветов Платона, социальная беспрозванность компенсировалась стихотворной известностью в полуподпольном кругу (и это был статус, если кто усомнился или запамятовал), молодой человек, алча обителей славы, соблазняется Западом и, потрясенный, осознает, что его новое, американское положение стократ хуже прежнего, покинутого столь опрометчиво. Трущобная крыса с коркой валфера в голодных зубах, он утрачивает оправдание унижений - веру в необходимость своего литературного слова, потому что вокруг нет внимающих этой речи людей, теряет любовь, уставшую делить его нищету, расстается с несбывшимся сном о признании, блеске, награде и взамен получает протяжный, на три сотни страниц растянувшийся вопль, тот единственный вопль, что во все времена исторгался лишь одержимою глоткой свободы. Наступает же эта свобода в момент, когда кроме нее надеяться больше не на что. Невзгод он себе не желал, но жанр вопля оплачивается угнетенным состоянием автора, и даже если разум не хочет страданий, тело, потенциально готовое к пронзительной откровенности, так извернется в судьбу, что крик становится неизбежным. Лимонова в той же мере назначили выкрикнуть "Эдичку", в какой Солженицына приговорили к написанию "Архипелага". В одном случае книгу ждали миллионы убитых, в другом ее встретила русская литература, изнемогшая от целомудрия и фальшивых приличий. Вопль - однократное действие, было бы глупостью требовать его повторения. С тех пор, уйдя от поэзии, автор выточил много мастеровитой прозы и публицистики, вернулся назад, увлекся политикой, несколько раз прекрасно говорил с экрана о революции и любви, сменил облик, стиль, поведение, женщин, и только глаза на одряблевшем лице иногда выдают, что это все еще он - Эдуард Лимонов.