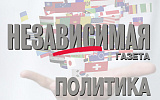В ОТДЕЛЕ личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка русской журнальной обложки "XX век. Мы - в обложке". Каждый год уходящего века представлен на ней пятью журнальными обложками - самых разных жанров, разного художественного качества, для разного читателя.
Авторы выставки, коллекционеры Алексей и Сергей Венгеровы, категорически утверждают, что их проект - все что угодно, но только не выставка журнальных обложек. Безусловно, они имеют право на такое утверждение: данный проект мог быть задуман и выполнен именно как исторический, а не художественный. Именно журналы, в немыслимых количествах возникавшие и исчезавшие в нашей стране в течение всего ХХ века, мгновенно реагировавшие на любые изменения в обществе, фиксировавшие с точностью до месяца, а то и до недели каждое событие в политике, культуре, моде, общественной и частной жизни, - именно журналы могут так наглядно представить нам на сравнительно небольшом пространстве выставки весь век целиком.
Конечно, существовали и другие предметы, фиксировавшие черты своего времени - плакаты, спичечные коробки, марки, но у них нет обязательного жесткого ритма выхода. Еще ритмичнее отражали жизнь газеты, но как выглядела бы выставка газет? Это могло бы быть захватывающим чтением, но вряд ли красочным зрелищем.
А раз уж мы заговорили о зрелище, значит, несмотря на возражения авторов выставки, мы имеем право рассмотреть ее и с точки зрения художественной.
И тут у нас начинается пир, майский день, именины сердца.
Оказывается, еще на рубеже XIX и XX веков художники открыли для себя, что жанр журнальной графики не только дает возможность быстрого и доступного заработка, что и сейчас практикуется, но и позволяет мобильно опробовать новые решения, рискованные формальные находки, отрабатывать тонкости возникающих на глазах стилей, которыми так богат был XX век. То, что с таким трудом воспринималось более консервативными жанрами - от книжного искусства до станковой живописи, журнальная графика схватывала на лету и за два-три выпуска доводила до блеска. На выставке это осознается мгновенно, с первого зала - обложек журналов 1900-х годов: "Мир искусства", "Весы", "Золотое руно" - кажется, все лучшие художники Серебряного века работали в этих журналах. Подписей с указанием художников под обложками нет; впрочем, в первой половине века многие художники имели привычку подписывать свои работы хотя бы инициалами. Кроме того, работу, скажем, Билибина или Бакста, Фаворского или Родченко нетрудно узнать и без подписи; и это вовсе не проходные, второстепенные их работы: видно, как в каждой из них мастер разрабатывал возможности своего собственного художественного языка и связи его со временем.
Потому что время, конечно, главный экспонат выставки. И с этой точки зрения, может быть, гораздо интереснее работы второстепенных, а то и вовсе не известных нам художников в журналах с давно забытыми названиями (названия - это еще одно удовольствие: например, неизвестный орнитологии "Красный ворон" или двойное воплощение агрессии - "Военный крокодил"). Время меняется на наших глазах - не только в названиях журналов и сюжетах обложек, но в самом способе изображения этих сюжетов, названий. Шрифтовые игры 1910-х годов сменяются формальными поисками 20-х; а в начале 30-х, году в 1933-м, их жесткий конструктивизм сминается почти мгновенно, превращаясь в беспомощную, дробную, но зато верноподданную кашу изобразительности. А потом два десятилетия все подбавляют и подбавляют в эту кашу сахар, может быть, даже сахарин, до уже невыносимой приторности 50-х годов. И робкие, но восторженные формалисты 60-х, и скучные циничные формалисты 70-х находят в этом ряду и свои корни, и свое логическое завершение. А поставленные в этот же ряд журналы последних двух десятилетий, казалось бы, уже намозолившие глаза, производят просто ошеломляющее впечатление. Эти рвущие глаз цвета, эти сочетания несочетаемых изображений и текстов, оказывается, просто обязаны были возникнуть из зашедшей в тупик регламентированности времен развитого социализма.
Конечно, выставка не только провоцирует на обобщения и на выстраивание рядов. Каждый отдельный экспонат может оказаться открытием. Случаются шедевры, прорывающие свое время насквозь, как фотография молоденького солдатика с растерянным, непонимающим взглядом на обложке "Огонька" 1941 года в окружении аляповатых главнокомандующих и карикатурных фюреров на соседних обложках. Мрачноватые свидетельства времени вроде прекрасно и очень профессионально сделанной, но неподписанной обложки журнала "Соловецкие острова", имевшего подзаголовок "За территорию лагеря не выносить". А случаются и просто недоразумения, но тоже много говорящие о ходе времени, о переменах в нашем сознании: так, вроде бы немыслимая фотография двух целующихся женщин на обложке "Огонька" 1927 года оказывается всего-навсего иллюстрацией к лозунгу: "Не целуйтесь! Через поцелуи при встрече больше всего распространяется повальная болезнь этого года - грипп!"














.jpg)