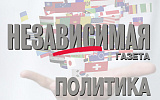Портрет на главной трибуне страны на площади Тяньаньмэнь – постоянное напоминание китайцам о великом кормчем.
Портрет на главной трибуне страны на площади Тяньаньмэнь – постоянное напоминание китайцам о великом кормчем.
Фото Артема Чернова (НГ-фото)
9 сентября исполнилось 30 лет со дня смерти Мао Цзэдуна. На его родине, в селении Шаошань в Центральном Китае, в связи с этим событием обновили мемориальный зал, где посетители могут посмотреть фильм, воспроизводящий один из поворотных моментов новейшей истории: Мао на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1 октября 1949 года провозглашает образование Китайской Народной Республики.
Не оставили без внимания памятную дату и предприниматели. В некоторых ресторанах гостя встречают официантки в военной форме, которые зачитывают названия блюд в меню пронзительными голосами, словно отдают приказы. Посетителям, желающим вспомнить, как кормили в столовых народных коммун, предлагается суп из рыбы в тазике. Из него могут хлебать сразу восемь человек. Или вы можете выбрать свинину под маринадом «а-ля Мао» и наслаждаться едой под звуки песни «Алеет Восток, солнце встает, в Китае родился Мао Цзэдун» и других мелодий, которые лились из репродукторов в его эпоху. Рестораторы понимают, что немало людей в возрасте 45 лет или старше не прочь вспомнить дни своей молодости.
Однако не только в Китае популярен основатель КНР. В соседнем Непале повстанцы, называющие себя последователями Мао, держат под контролем около половины территории страны и ведут с властями переговоры, которые могут закончиться созданием правительства с их участием. Есть его поклонники и среди партизан – вожаков крестьянской бедноты в Индии и даже в Латинской Америке. Так что без тени преувеличения можно сказать: дело Мао если не побеждает, то, во всяком случае, живет.
В чем же притягательность наследия Мао или, точнее, мифа, который он сам усиленно культивировал?
Разгадка ребуса на даче Сталина
Основатель КНР хорошо знал китайскую классическую литературу, историю страны и нередко обращался к ее эпизодам, когда нужно было доказать читателю справедливость своих тезисов или произвести впечатление на слушателя. Николай Федоренко, советский дипломат и ученый-китаист, вспоминает, что во время беседы в Кунцево со Сталиным и другими членами политбюро Мао рассказал, как руководимое коммунистами соединение попало в окружение, тогда командующий обратился к бойцам с призывом: «Не страшиться испытаний, смотреть на смерть как на возвращение!»
Эта фраза поставила Федоренко, переводившего разговор, в тупик. Он был вынужден попросить китайского вождя написать ее на бумаге и растолковать смысл. Сталин, однако, выразил недовольство заминкой в переводе и спросил нашего дипломата, долго ли они с гостем будут заниматься «конспирацией». К счастью, Мао пришел на помощь, разъяснив, что изречение принадлежит знаменитому полководцу Древнего Китая Ио Фэю и означает: «презреть трудности и мучения, смотреть на смерть как на возвращение в первосостояние».
Опираясь на свою репутацию человека, хорошо сведущего в национальной культуре и умеющего применить марксистское учение к реалиям Китая, Мао еще в 40-х годах, в период войны с Японией, стал популярен среди патриотически настроенной интеллигенции и выступал с указаниями о том, какого курса должны придерживаться литераторы и деятели искусства, желающие помочь изгнанию оккупантов. Свою роль сыграли и журналисты, в том числе американец Эдгар Сноу, которые пробирались в советскую республику, основанную в Северо-Западном Китае коммунистами во главе с Мао, и публиковали репортажи, свидетельствующие о том, как руководители партизанского края делят с солдатами и крестьянами все тяготы войны и вдохновляют их личным примером на борьбу с врагом.
Мне довелось побывать в Яньани, столице бывшей советской республики, а впоследствии так называемого Особого района Китая в 1993 году. Тогда еще здравствовали жители из окрестных сел, встречавшиеся во время войны с «председателем Мао». Один из них рассказал мне, как председатель посетил деревню на праздник весны (Новый год), здоровался с мужчинами за руку, интересовался, в каждом ли дворе закололи свинью, чтобы устроить угощение. Наверное, уже тогда Мао целеустремленно лепил образ вождя, знающего нужды народа.
И это ему удавалось, ведь условия жизни в Особом районе действительно были спартанские. Домов в Яньани не хватало, Мао, как и других политиков и военачальников, поселили с его четвертой женой Цзян Цин в пещере. Ее сохраняют, как музей. Конечно, это не совсем обычная пещера. Две комнаты. В первой – рабочий стол, на нем книги, у побеленной стены грубо отесанный некрашеный шкаф. В спальне широкая кровать. Единственные предметы «роскоши» – противомоскитная сетка и шезлонги.
Нравы царили простые. Если ночью приходило сообщение, что войска Чан Кайши, осаждавшие освобожденные районы, начали наступление, командиры входили в пещеру председателя, стаскивали с него одеяло и тут же начинали совещание. А ветераны Красной армии, совершившие в 30-х годах вместе с председателем «Великий поход» с баз на юго-западе страны на северо-запад, не забыли, как он ел рис из одного с ними котла.
И еще одно правило в этом войске босяков, а впоследствии и в Особом районе соблюдалось неукоснительно. У крестьян нельзя изымать продовольствие, за все нужно расплачиваться. На фоне разложившегося воинства Чан Кайши дисциплина у красных выглядела образцовой. Уважение к крестьянам, простота начальников в общении с населением стали тем секретным оружием, которое помогло им завоевать деревню. Сам Мао характеризовал отношение коммунистов к крестьянам так: «Мы, коммунисты, подобны семенам, а люди подобны почве. Где бы мы ни были, мы должны объединяться с людьми, пустить корни и расцвести среди них».
Масса китайцев, даже не относившихся к обездоленным слоям, приветствовала победу революции, надеясь, что она положит конец нескончаемой смуте и кровопролитию, обрушившимся на Поднебесную в первой половине ХХ века.
Однако воцарившись в Пекине, Мао не спешил пускать корни среди масс. Он поселился в павильоне в Чжуннаньхае, среди озер и рощ, на территории, где жили раньше император и его родня. Поскольку председатель любил плавать, у его «квартиры» был оборудован бассейн. А зажиточные люди на селе, интеллигенты, рассчитывавшие на снисходительное отношение коммунистов, провозгласивших лозунг «новой демократии», вскоре на себе ощутили железную хватку кормчего. Начались гонения на бывших помещиков и прочих «контрреволюционеров». Несколько миллионов из них было уничтожено. Потом развернулись наступление на частный капитал, борьба с «правыми элементами» среди преподавателей, деятелей искусства, ганьбу (партгосчиновников). Словом, одержав победу в гражданской войне, Мао стал действовать как коммунист сталинского стиля, безжалостно подавлявший любое инакомыслие.
Старший брат оказался ревизионистом
Кампания против «правых элементов», землевладельцев и сторонников разгромленного гоминьдановского режима, оказалась лишь прелюдией к тем утопическим социально-экономическим экспериментам и массовым расправам с «уклонистами», которые ожидали Поднебесную в конце 50-х, а потом в середине 60-х годов.
Отношения с Москвой после смерти Сталина обострились, и лидеры КНР перестали говорить о Советском Союзе как о старшем брате, который помогает Китаю прокладывать путь к коммунизму. Напротив, Хрущев в глазах Мао и его приверженцев в ЦК превратился в ревизиониста и соглашателя. Председатель счел, что настала пора показать КПСС, как методом «большого скачка» можно построить коммунистическое общество в кратчайший срок, обеспечив КПК главенствующую роль в мировом коммунистическом движении.
Замысел председателя состоял в том, чтобы, перечеркнув первый пятилетний план, сверстанный при участии советских специалистов, одновременно резко увеличить промышленное и сельскохозяйственное производство. Осуществлять этот замысел должны были в первую очередь крестьяне. Трудовые ресурсы деревни власти бросили на строительство каналов, ирригационных сооружений, а также на выплавку металла в самодельных «доменных печах». Традиционные методы обработки почвы были объявлены устаревшими, земледельцев загнали в народные коммуны.
Попытка воплотить эту схему в жизнь отбросила экономику на несколько лет назад. Начался голод, умерло по меньшей мере 20 миллионов человек.
Осознавал ли председатель, какие бедствия навлек на людей? Крестьяне из его родной деревни Шаошань поведали тележурналистам, что Мао побывал у них в тяжелую пору и со слезами на глазах выслушал рассказ о том, что сельчане питаются скудно, а уж о мясе вообще забыли. Что ж, люди, приближенные к вождю, например врачи, свидетельствуют, что ничто человеческое ему было не чуждо. Но когда дело касалось воплощения левацких псевдомарксистских утопий преобразования Поднебесной или борьбы с противниками его курса, то тут нормы морали или уважения древних гуманных традиций китайской культуры полностью отбрасывались.
В середине 60-х годов прагматики в партии, такие как Лю Шаоци и Дэн Сяопин, попытались вернуть жизнь страны, потрясенной «большим скачком», в нормальное русло. Повседневную практическую работу они взяли в свои руки, а Мао как бы оказался оттесненным на второй план, сохранив роль идеолога и лидера, который определяет международную политику.
«Кормчий» исподволь готовил ответный удар. В 1965 году он выступил на совещании ЦК и призвал развернуть классовую борьбу «против тех облеченных властью, которые находятся внутри партии и идут по капиталистическому пути». Это совещание стало прологом к десятилетней трагедии, которая получила название «культурной революции».
За это время были погублены или опозорены миллионы людей. Вполне закономерно сопоставить деяния Мао со сталинским «большим террором». Коммунист Чэнь Хайшэн, много лет работавший с Мао, говорит, что между двумя диктаторами много общего. Например, Мао подозревал в измене своего ближайшего сподвижника Лю Шаоци, завидовал прославленным маршалам, героям гражданской и корейской войн. Эти люди стали жертвами чисток. Сталин испытывал симпатии к Ивану Грозному, а Мао – к Цинь Ши-хуанди, создателю первой китайской империи, жившему в III веке до нашей эры. Хотя его правление было отмечено неслыханными жестокостями, казнями пленных, сановников, ученых и даже сожжением древних книг, Мао считал, что заслуги императора, объединившего Поднебесную, перекрывают «недостатки».
«Не надо читать много книг»
Впрочем, в отличие от Сталина руководитель КПК расправлялся с неугодными не столько с помощью органов безопасности, сколько руками доведенных до состояния озверения подростков и студентов. Они не щадили ни убеленных сединами писателей, ни музыкантов, ни ветеранов революции. Именно в разгар этой вакханалии Мао Цзэдун, ценитель древней литературы и автор незаурядных поэтических произведений, обратился с таким отеческим советом к молодежи: «Не надо читать много книг». Молодежь и не читала. Зато разъезжала по стране с цитатниками кормчего и громила «ревизионистские и феодальные элементы».
Чжоу Ляньчун, ныне предприниматель, а тогда 11-летний деревенский паренек, вспоминает: женщина средних лет отшлепала своего сына и соседского мальчишку за то, что подрались. Согласно логике культурной революции она совершила тяжкий проступок. Ведь женщина относилась к категории «богатых крестьян», а с ее сыном схватился «бедняк».
Сельский комитет «красногвардейцев» решил преподать классовому врагу урок. Женщину поставили на колени на площади перед членами производственной бригады, которая насчитывала примерно100 человек. Каждый должен был дать ей по шлепку. Но и после избиения злоумышленница не унималась. «Ешьте и дальше свое дерьмо!» – выкрикнула она. Тогда Чжоу послали к ближайшему отхожему месту, приказали набрать экскрементов в ведро и разбавить их водой. Предводитель «красногвардейцев» влил эту смесь в рот женщине. После этого она замолчала.
Разобравшись с чуждым элементом у себя дома, «красногвардейцы» отправились в соседний буддистский монастырь. Они заставили монахов напялить на головы мусорные корзины, одеть заплечные мешки, нагрузить их булыжниками и ходить около своей обители.
«Культурная революция» завершилась со смертью председателя. Если в начале 50-х годов КНР находилась примерно на том же уровне экономического развития, что и Южная Корея, Гонконг, Тайвань, то через двадцать лет Китай отставал от них в 10–15 раз.
То, что Китаю за последующие десятилетия удалось не только вырваться из этой черной дыры, но и обеспечить прирост ВВП на 8–10 процентов в год, можно назвать настоящим экономическим чудом. Оно стало возможным благодаря трудолюбию и предприимчивости китайцев и реалистичной, хорошо продуманной социально-экономической политике нового руководства КПК, в котором видное место занял Дэн Сяопин. Лидеры, сменившие в Чжуннаньхае председателя, отбросили столь дорогие ему идеалы коммунистического равенства, взяв курс на развитие рыночной экономики, сотрудничество с иностранным капиталом и даже распахнув двери партии для частных предпринимателей.
Портрет на площади Тяньаньмэнь
Но похоронив вместе с Мао многие догмы марксистско-ленинского учения, наследники сохранили его в пантеоне вождей. Огромный портрет председателя по-прежнему смотрит на пекинцев и гостей столицы, которые приходят на площадь Тяньаньмэнь. Каждый партиец, как это следует из официальных документов, обязан изучать идеи Мао Цзэдуна наряду с теорией Дэн Сяопина и указаниями предпоследнего генсека КПК Цзян Цзэминя. Когда после кончины кормчего начался процесс реабилитации людей, ошельмованных в годы культурной революции, КПК одобрила формулу: 30% содеянного председателем было плохим, а 70% – хорошим. Эту формулу партия пересматривать не собирается.
Нетрудно понять, почему КПК не отрекается от вождя, на котором лежит вина за гибель десятков миллионов людей. Ведь с именем Мао связаны не только преступления, но и героические страницы в истории – «великий поход», победа над Чан Кайши и объединение страны. Отказаться от наследия Мао – значит подорвать легитимность КПК как правящей партии.
Да и у массы китайцев такой шаг вряд ли вызвал бы восторг. Ведь бурно растет не только индустрия, но и разрыв в уровне жизни между «новыми китайцами» и рабочими, горожанами и крестьянами, особенно из западных и центральных провинций, которых земля не в состоянии прокормить. Армия «избыточных» работников из села, кочующих по стране, составляет десятки миллионов. К тому же всем известно: дети и внуки партийных бонз прекрасно устроились дома или за океаном и нередко становятся хозяевами самых успешных фирм.
«Разве такое можно было представить при председателе Мао?» – этот вопрос доводилось слышать и мне, и многим другим иностранным репортерам, работавшим в стране. Вот парадокс: эпоха Мао, который после воцарения в Пекине отнюдь не вел образ жизни аскета, в глазах нынешнего поколения становится временем, когда люди имели одинаковый достаток, получали справедливое вознаграждение за труд, а чиновники не осмеливались залезать в государственный карман.
Для тех, кто остался на обочине китайского бума, а также для революционеров в странах третьего мира Мао остается мифической, почти божественной фигурой. Недаром в Хунани, провинции, где он родился, крестьяне у его бюста, как у алтаря, зажигают свечи.














.jpg)