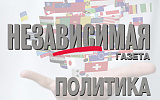|
| Чувственность и язык формы двигают спектакль. Фото Полины Королёвой предоставлено пресс-службой театра |
«Федра» Цветаевой у Виктюка – телопомешательство и вакханалия на сцене, бросающая тебя, как ягненка, под нож ритуала, в мир не поддающейся уму – только языку чувств – поэзии. Путь от плакатно-эротического сладострастия «Служанок» до любовной трегедии-ритуала «Федры», выстроенного пуантилистически, кричаще-вакхическими жестами, опасными касаниями-недокасаниями тел, надрывными криками души, тела и плоти. Путь значительный, огромный, все же целостностью не знаменован, быть может, даже намеренно.
Вот он, чистый ропот плоти! Чего же так недостает в этой филигранной поэме театра ритуала? Может, замысел в том и состоял, чтобы неполная чаша любви раздражала, чтобы полувоображаемая, полуфизиологически ощущаемая брызнувшая кровь неудовлетворенных любовников туманила разум? Почему так раздражают на сей раз излишества физиологических проявлений страсти – излишество пота, повторений эротических мизансцен, не всегда перерастающих в пластическую метафору? Но без пота, его излияния и изгнания в цветаевской «Федре» не обойтись, там пот – эликсир хаоса, продукт любви, афродизиак Афродиты, а Артемида, изгоняющая любовь, заставит и тело высушить, и на крюк его вздеть. Чтобы понять виктюковские излишества, нужно терпение. Иное дело, что с инстинктами мужского театра справится не каждый, несмотря на совершенство эстетического оправдания.
Обращаясь к простому и ясному языку древних, можно сказать: слишком много горячего и слишком малого терпкого, сухого (выжатая трагедией страсть, губы, высохшие от боли, – конечная стадия страдания). Невольно вспоминается трагический стон Коонен–Федры, сдержанный чертеж таировских мизансцен – недостижимая планка!
Бездна вопросов и бездна пластических утверждений, их опровергающих. Вольно или невольно ставя рядом театр выразительного танца Виктюка с театром ритуала Таирова, который мы знаем только по описаниям, и театром Пины Бауш, который жив в нашей памяти, сразу же отмечаем главное отличие. В танце Пины Бауш пластически абстрагируется трагический индивидуум эпохи, хором совокупность этих спотыкающихся и падающих в бездну индивидов можно назвать только с эстетической точки зрения. В танце Виктюка–Аносова (в спектакле есть и «режиссер по пластике») пластически воплощена неразрывность коллективного родового чувства человека. Динамика и криптограмма стиха воплощаются через движение-пульсирование по сцене стихийного клубка тел, напоминающего расплетенный на звенья античный барельеф или многовакхическую скульптуру. Режиссер называет это существо пластическим хором, можно назвать его и спрутом-лаокооном, изматывающим душу себе и зрителю. Надорванному голосу стиха Цветаевой этот язык под стать; язык, язык формы вообще, в спектакле, пожалуй, даже важнее смысла или же он и есть высшая ступень этого смысла.
Следующая вслед за голосом инстинкта театральная плоскость нового спектакля – огнедышащий язык поэзии с ее малейшими колебаниями строфы, перепевами звуков: «Лишнее влил/ С вечеру – Яр/ Вакх в час игры/ Даже не пар/ Лунный – пары/ Винные. Чад!..» Скальпелем вскрыв оболочку цветаевского стиха, обнажив разные его пласты, звуковую палитру, режиссер дал актерам возможность работать не с оболочкой, а с живой магмой стиха. Следуя пушкинскому самоотверженью, он вырвал из актеров грешный язык старого театра и «десницею кровавой» вложил эту магму, словно «жало мудрыя змеи, в уста замершие» актеров. Структурно четкий и вычурный, разбитый на «малевичевские» квадраты цветаевский стих звучит как живой авангардистский стих. И слышится в нем громыханье колесниц, голоса леса, воркование царственных особ, шепот блудниц и блудников, безумие раскованной плоти, стук бьющихся в унисон сердец и пульс замирающего обезлюбленного сердца Федры. Не уверен, что Виктюк, подобно Эфросу, дал канон сценического стиха эпохи, но что, тщательно подбирая ключи к тайне стиха Цветаевой со знанием секретов структуралистов, он много преуспел в этом, бесспорно.
Цветаевскую поэтическую схематизацию сюжета «Федры» режиссер интерпретировал как хаотически-упорядоченный поток пластических метафор, от многофигурных до «микроволновых» и кварковых. Действительно, полосою проходят и стада воплощенных в гордой стати воинов любви с устремленными вперед руками стрелков какой-нибудь египетской царицы Хатшепсут, и лаокооновски переплетенные тела в чувственных композициях, и сценографические метафоры (врата замка, ложе любви и ложе смерти), и пластические дуэты и трио.
Виктюк консервативен в приемах и излишествах, он развивается так, будто нет ни Эйфмана, ни Някрошюса и иже с ними. Пряное, спартанское мужское тело с мечтой о благородной стати. Один зритель сокрушался, что роль Федры поручена мужчине, ему возразили: женщина не способна сыграть то, что сыграл Бозин. Дмитрий Бозин (Дух ночи/ маска Федры) то летает по сцене, будто поэтическое божество и фурия любви, то трепещет в пламени страсти, то, как смертное привидение, бредет по тропе безлюбия и тает на глазах. Огибание одного любящего тела другим так трепетно, как это делает замедленная сценическая метафора двух замерших в воздухе рук. Прежде такой гармоничный чувственный пуантилизм был недостижим актерам Виктюка. В разных вариациях то же видим и в Игоре Неведрове – Ипполите, и в Иване Ивановиче – Судьбе.
Виктюк настаивает, что он выделяет в «Федре» божественно-мифологическое начало любви, приходящей к трагедии, а также агон жено- и мужененавистников. Для меня в финале спектакля сильнее звучала трагическая тема любви, балансирующей на грани божественного взлета и греха, любви, за которую нужно расплачиваться. Не случайно слышатся в спектакле религиозные песнопения монахов, оплакивающих конец всякого чувства и закат всего на свете. Не раз еще ты войдешь в афродитин грот и будешь наказан Артемидой – будет «вина покарана./ Молнья новая, туча старая»… И это не излишество.